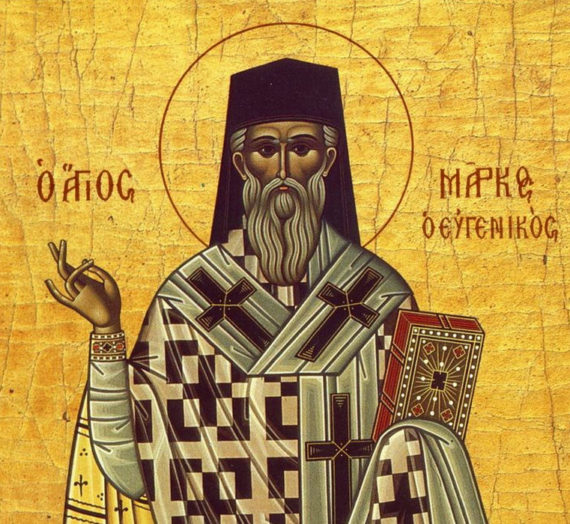Содержание
Святые Горы и Оптина пустынь Святые Горы Оптина пустынь Подвиги Соловецкой обители Вступление Исторический обзор обители Осада Соловецкой обители Впечатления Украины и Севастополя Святые Горы Славянск Симеиз Впечатление Севастополя Обновление Херсонеса Инкерман и северная сторона Алупка Приложения Усадьба в Киеве Символика Софийского собора Значение Киева для России Крестный ход на Крещатик в день Святого Владимира Обновление крещальни Святого Владимира
Святые Горы и Оптина пустынь
Святые Горы
Тепла украинская звездная ночь; отрадно дышать ее мягким ароматным воздухом. Молодой месяц, золотым своим рогом, прорезается из-за дикой чащи святогорской, чтобы подняться на это афонское небо нашей Украины. На темени горы мелькают сквозь ветви дерев яркие звезды, как бы земные огоньки жилья человеческого, когда в них самих целые миры – так часто необъятное кажется мелким для нашего близорукого взора. Луна, выражавшая некогда в сих краях знамение ислама, освещает теперь самую мирную картину, которую может только пожелать христианское сердце. Тихий Донец, достойный союзник тихого Дона, как слывет он в песнях народных, незыблемой лентой вьется у подошвы лесистых гор, по лесной дебри; нет ни малейшей струи, как бы ни одной тревожной думы на его светлом лице, хотя много ратных тревог, искони и еще недавно, от половцев и до крымцев, оглашало его дикие берега, и славен он в древней песне о полку Игореве.
Что же умиротворяет здесь его течение? Вот, из лесной чащи подымается над ним белый призрак, увенчанный крестом, и веет на него миром; у подошвы сего таинственного исполина, при слабом мерцании луны, белеет на берегу обитель, и серебристый звук ее колокола, от времени до времени разрешая молчание ночи, как бы языком человеческим вещает мир: и мир сей приемлет в свое глубокое лоно тихий Донец, и этим миром проникается заветная чаща святогорской дубравы, и вся необъятная лесная дебрь окрестной пустыни безмолвствует широко. Слышен только, посреди молчания дел человеческих и ночной тишины, безбрежный, безгласный говор невидимого мира насекомых: мириады кузнечиков стучать, легким своим молотом, в вековых дубравах, и как бы вступают в наследие упокоившихся людей, дабы всякое дыхание, в свое урочное время, хвалило Господа.
Отрадно и свежее украинское утро, когда первые лучи его золотят, в лесной чаще, тот же белый призрак, увенчанный храмом; Донец, встрепенувшийся от ночного сна, покрывается весь серебристой зыбью; широкие тени лесов сходят к нему, по уступам береговых холмов, мало-помалу проницаемых лучами дня; вся лесистая дебрь до дальних высот Изюма и Кременца, ограждающих горизонт, ярко горит солнечным светом и, посреди сего пустынного моря зелени, живописно раскинулось вдали село Богородица, как умиленно зовут его простодушные жители Украины. Сходная местность и сладкие имена афонские в одно время утешают взор и слух. Но всего очаровательней сама обитель, от светлых вод Донца возносящаяся до вершины горы; величественны, под навесом вековых дерев, уступы горнего ее крыльца, которое ведет на священный утес, избранный жилищем для отшельников, хотя, казалось бы, природа создала его только для орлиного гнезда. Хотите ли уподоблений Афонских? – это выспренняя обитель Симо-Петры, прикованная к гребню утеса; хотите ли сравнений более родственных? – это как бы священный отрывок гор киевских, на коих также воссияла благодать Божия, по слову Первозванного; но только мирный Донец заменяет здесь бурный Днепр, и конечно, это сходство, киевское и афонское, привлекло сюда отшельников и усвоило обители сладостное название Святогорской.
Не странно ли встретить этот лесной и горный оазис посреди нашей Украины? Воображение с детства привыкло искать в ней одни лишь безбрежные степи, с их сторожевыми курганами, где дико пасутся конские табуны или белые стада волов, где еще недавно бурно носились наездники гайдамаки, а теперь медленно тянется, как бы на пустынной ладье, одинокий чумак на своей двухволовой колеснице между Великих могил, ибо так слывут сии курганы в народных преданиях Украины. Чем неожиданней было явление, тем приятнее для сердца, и теперь я отдыхаю, в этом мирном оазисе, под гостеприимным кровом его приветливых владельцев.
Быстро и неожиданно перенесся я, из лесистых дебрей Брянских в равнины Украины, томительные однообразием и зноем; но вот от станции Голой долины, вполне заслуживающей это название, ночью оставили мы большую Славянскую дорогу, и нас встретил лесистый берег Донца. Крутыми своими изгибами он будто заграждал нам путь в заветную обитель: едва перевезлись мы на пароме через его светлые воды, у села Богородицы, как вдруг опять он бросился поперек нашей дороги, в вековой дубраве, но тут уже и сам окованный мостом. Чудное зрелище поразило меня по ту сторону моста – над самой рекой стала пред нами, как бы предел путей человеческих, высокая церковь; она сияла из всех своих окон, огнями лампад в свечении; сладкое пение в ней раздавалось, привлекая к молитве; отверстые широко врата приглашали внутрь ограды, в колокол сверху договаривал приветный зов сей в тишине ночи. Не смотря на усталость трехдневного пути, невольно взошел я в Святые врата, и над ними в благолепную церковь Покрова Богоматери, не оставлявшей святое место сие и во время его долгого запустения. Стройно пели иноки второй ирмос канона Богородичного, столь утешительный обетованием неколебимости Церкви Христовой, утверждаемой Духом Святым, и эта приветная песнь исполнила благими надеждами сердце.
Я должен был, однако, уступить усталости и воспользоваться кратким отдыхом до поздней литургии, в гостинице монастырской, но с первым ударом колокола поспешил опять в обитель. Народ спускался по живописной лестнице со скалы, где была ранняя обедня в горней церкви святителя Николая, и первое лицо, которое я встретил у крыльца, был давний мой знакомец, английский диакон Пальмер, с которым шесть лет тому назад мы простились в Лондоне, а в прошлом году разъехались в Палестине. Я знал из Одессы, что он идет в Святые горы, но уже не надеялся застать его там, и утешительна была для меня сия первая встреча. Диакон Английской Церкви в Украине, у подножия святогорской скалы, идущий вместе с православным народом от ранней литургии, – не замечательное ли это явление для каждого? Но оно еще более чувствительно было для того, кто коротко знал церковные обстоятельства, побудившие сего искателя истины, в течение стольких лет, стремиться за ней по Западу и Востоку: быть может, только по избытку пытливости, не удовлетворялось благочестивое его сердце, хотя пламенно желает истины и, даст Бог, обрящет в лоне вселенского Православия. С русской горячностью бросился я обнять Пальмера после столь долгой разлуки; с английской холодностью пожал он мне руку, как будто мы только вчера расстались, хотя я не мог сомневаться в его радости. Но на лице его, сквозь обычное спокойствие, выражалась тяжкая дума: он будто истомился на труженическом пути своем и изнемог в искании; его тяготило чуждое уже для него состояние родной его Церкви, а между тем колебалось сердце между Западом и Востоком: с одной стороны мнимый внешний блеск Римского вселенства, увлекавший из его присных в Англии, с другой чистота догматов Восточного Православия, в коих он истинно убедился, даже с явным исповеданием нашего Символа без приложений Западных, производили тяжкую борьбу в его совестливом сердце. Одиночество странного его положения между трех Церквей, печальной думой отражалось на его лице и отзывалось в его беседе.
Пальмер – один из замечательных характеров нашей эпохи, для изучающего современную церковную историю. Тем грустнее было для меня его долгое колебание, и я, с сердечным участием, встретил его у подножия скалы святогорской. Мне пришла на мысль его Оксфордская келья, бывшего аббатства, ныне же ученой коллегии Святой Магдалины, где можно было вообразить себя в какой-либо русской обители, от множества икон, украшавших сию келью, с творениями славянскими святых Отцов; вспомнил я в ту трогательную минуту, когда Пальмер, принеся мне молитвослов для чтения вечерних молитв, не хотел нарушить прав гостеприимства и ввести меня в искушение, разделив со мной чтение сих молитв, ибо Церковь Православная запрещает молиться с неправославными; а он, хотя и не почитал себя таким, но должен был казаться им в моих глазах, а тем трогательнее было это внимание. Я не хотел однако платить ему здесь той же строгостью и напротив того зная, что он в душе приемлет все наши догматы, старался чтобы во время нашего общего пребывания в обители святогорской, он разделял с нами все молитвы; мне желалось, чтобы сердце его более и более привязывалось к любимому им богослужению нашему, и сим внешним путем привлекало его внутрь спасительной ограды.
Вслед за Пальмером встретил я, у подножия скалы, все святогорское общество. Владетельница Святых
гор хотела, чтобы я немедленно переселился в ее очаровательное жилище, к которому особенно привязано ее сердце, и действительно есть тут что полюбить и чем полюбоваться. Живописная дача ее в полугоре, с обширными видами на всю долину Донца, при безоблачном небе Украины, напомнила мне римские виллы Фраскати, с их просветами на чудную пустыню вечного города; особенно поразило меня, с роскошной террасы, нечаянное зрелище обители святогорской и ее меловых утесов, просеченных кельями иноческими, под сенью вековой дубравы. Колокол долго и громко призывал к молитве, а я еще не мог оторвать взоров от чудного вида. Сама радушная хозяйка, казалось, не могла наглядеться на эту картину, которая как бы ежедневно обновлялась пред ней, и это весьма понятно, потому что, без ее одаренного усердия, Святые горы доселе бы оставались в их печальном запустении.
После обедни, которая совершалась чинно и благолепно в будни, как бы в праздник, в новой превратной церкви Покрова, посетил я настоятеля архимандрита Арсения. Мы уже давно были с ним знакомы, и он постоянно приглашал меня на Святые горы. Должно сказать правду: нельзя было найти человека более способного для восстановления столь древней и замечательной обители, которая вместе и монастырь и пустыня, а между тем отовсюду заключена в пределах частного владения и нуждается в его пособиях. Происходя из достаточного купеческого рода, отец Арсений оставил много своего в мире, чтобы посвятить себя службе Божией, а следственно не жаждет богатеть в себя, а между тем, для домашнего устройства обители, имеет большую опытность, которой обязан своему первоначальному быту. С другой стороны он имел случай посетить Восток и пожить на всех его святых местах, в Палестине, на Синае и Афоне, под руководством духовного наставника, каков был незабвенный князь-инок Аникита Шихматов, и мог изучить весь быт иноческий в первоначальном его образе; когда же возвратился на родину, проходил опять строгое послушание в Глинской пустыне, под началом подвижника Филарета, которого память доселе уважается во всей окрестности: таким образом и духовная опытность присоединилась к житейской; тогда лишь совершенно нечаянно, встретился он с владетелями Святых гор, в ту самую минуту, когда они хотели обновить их, и духовное начальство искало опытного настоятеля в новую обитель. Я просил Архимандрита показать мне все достойное внимания в Святых горах: мы условились начать со священного утеса, как послужившего основанием для обители, и еще до захождения солнца взойти на его вершину.
После вечерни все собрались у подножия скалы и, со свечами в руках, предшествуемые настоятелем, взошли внутрь ее пещер. Начало их прокопано не в меловом грунте, который встречается несколько далее, а потому нас обвеяло холодом и сыростью. «Мы должны были откапывать вновь это все пространство до мелового грунта, – сказал мне Архимандрит, – незадолго до обновления Святых гор, засыпано было начало пещер, будто бы из опасения, чтобы не обвалились своды; но Промыслу Божию угодно было сохранить святыню в древность».
Довольно крутым подъемом достигли мы до меловатого грунта и сейчас почувствовали его благодетельную теплоту и сухость; изумление мое возрастало с каждым шагом. Этот тесный наклонный коридор напоминал мне еще более внутренность пирамиды египетской, нежели киевские пещеры, где после малого спуска идешь по ровной поверхности; а тут, около ста саженей, все круче и круче подымалась дорога. Местами останавливал нас настоятель, чтобы дать отдохнуть и показывал, как сама природа сплотила сию меловую массу, слоями кремня ее пересекающими: иначе не могла бы держаться такая громада в виде отдельного утеса. Мне пришло, однако, на мысль, что не иноки первые были делателями и обитателями сих пещер; но как преподобные Печерские нашли уже готовыми Варяжские пещеры и только обратили вертеп разбойников в жилье иноческое: так и здесь, на Святых горах, кажется, что первые безвестные подвижники воспользовались какой-нибудь опустевшей твердыней половцев. Известно, что не далеко отселе была их столица Саркел или Белая Вежа, а этот утес, в лесной чаще на берегу реки представлял самородную крепость, которой лучше не могли создать себе люди; посему быть может и покрыто неизвестностью начало обители. Впрочем, это одна только догадка; небольшие пещеры в Саровской пустыне слывут также Болгарскими.
Когда мы поднялись в самое сердце мелового утеса, узкий переход круто поворотил налево и потом
опять вправо; тут собственно уже начиналось жилье и местами, на поворотах, иссечены были малые углубления в виде келий, где стояли кресты и иконы, для молитвенного возбуждения тружеников, восходящих на скалу. В одном из сих углублений, на втором повороте пещерного хода, настоятель указал мне гробницу, в которой сложены были им все кости подвижников, найденные в пещерах, дабы не расхитили их святотатно; отслужив над ними соборную панихиду, их опустили в землю в общем гробе. Давнее предание уверяет, будто от сего места тайный подземный ход сообщался с Киевскими пещерами Антония и Феодосия, и сколько ни казалось нелепым такое сказание народное, оно основано, однако, на истинном начале. Вероятно, здесь и доселе существует забытый ход в недавно открытую пещерную церковь святых Антония и Феодосия, которая давно уже была завалена; а так как сохранялась память, что было некогда сообщение с пещерой Антония и Феодосия, то воображение народное, которое любит все преувеличивать и украшать, для большей славы Святой горы, выдумало, будто бы этот заложенный ход ведет прямо в Киев, к древнему жилищу преподобных Печерских. Много поэзии в этом народном сказании, которое соединяет давно минувшее с настоящим, ради духовного их единства, и былое облекает в небылицу, лишь бы сохранилось предание. Я просил архимандрита постараться отыскать этот древний ход, во вновь открытую подземную церковь Антония и Феодосия, и он обещал это исполнить, если только можно. Несколько далее был тайный спуск со скалы к Донцу, но и он теперь закладен настоятелем, чтобы лучше охранять ее заветную внутренность.
Мы продолжали подыматься, но уже по весьма легкому наклону, с некоторыми поворотами, почти под самую вершину утеса, и тут нашли наконец древнюю обитель, зародыш нынешней. Сперва взошли мы в малую церковь святителя Николая, всю ископанную в скале, которой своды опирались на одинокий меловой столб, подсеченный не временем, а людьми; на этом столбе явилась по преданию чудотворная икона святителя, и усердие народное изгрызло столб ради исцелений, так что принуждены были обложить его камнем. Не более двух квадратных саженей в этой замечательной церкви, которая послужила основанием Святогорью, когда еще гнездились иноки в сердце утеса. Не понятно, как решились ее упразднить в последующие более мирные времена, когда монашествующие могли подняться на самое темя скалы и там устроить новую церковь во имя Чудотворца, полуиссеченную в меловом утесе, полудостроенную. Более полутораста лет пустело основное их святилище и не было в нем богослужения, доколе, при восстановлении обители, преосвященный Иннокентий не возбудил красноречивым словом одного ближайшего благодетеля, помещика Малиновского, обновить и сию древнюю церковь. Приходило на мысль посвятить тогда верхнюю Преображению Господню, как стоящую на вершине скалы; но давность ее посвящения святителю Николаю удержала от такой перемены; весьма прилично разделено между обоими празднование тому же угоднику Божию: зимний праздник совершается внутри пещерной церкви, по ее теплоте; весенний же на верху горы, благоухающей тогда древесными листьями и цветами.
Около сей внутренней церкви есть несколько переходов и до пяти келий, примыкающих к ней с разных сторон; в одной из самых тесных, на востоке, обитает теперь затворник, сокрывшийся в сердце горы; одна с западной стороны обращена в церковный притвор и есть еще две рядом с ней, в которые проникает свет сквозь узкие окна. Довольно обширная трапеза свидетельствует, что тут было полное жилье иноческое, человек на двенадцать, если не более, которые, в непрестанном страхе Божием и человеческом, тут подвизались высоко и далеко от всякой молвы житейской. Им угрожала двоякая опасность: духовно впасть в сети дьявольские, если оскудеет их молитва, и вещественно в руки вражьи, монголов или крымцев, если неосторожно спустятся с уединенной скалы своей, в которую не было ниотколе ведомого пути. Одно строгое затворничество могло охранять их, в столь опасных местах, на правом враждебном берегу Донца, где впоследствии протянут был в защиту от врагов так называемый красный вал, конечно от крови, потому что крымцы сдирали кожу с ног каждого пленника. Такова была страшная местность сей обители, и потому, вероятно, не многолюдна была она в первые времена, до учреждения слобод украинских в защиту сего края; вероятно, были здесь и невидимые нам мученики, запечатлевшие кровью своей труженический подвиг, а быть может, некоторые из них служили и сторожевыми вестниками, для спасения православных собратьев.
Настоятель сказал мне, что он застал еще следы русской печи в трапезе и обратил мое внимание на крепкие слои кремня, как бы связи для сводов скалы: рука Небесного Строителя, видимо, соорудила здесь обитель иноческую. Малые сенцы устроены были близ одной кельи, между скал, и висели над бездной; чудный вид открывался с сего горного балкона на долину Донца; это мне напомнило уничтоженную теперь террасу нижних пещер Киевских, с ее обширным видом на все Заднепровье. Не много ступеней уже искусственного крыльца вывела нас изнутри скалы на высокий рундук, пристроенный к церкви, вместо прежнего обветшавшего. «Удивительно, – сказал Архимандрит, – как еще мог, в течение стольких лет, держаться старый, который почти висел на воздухе, не опираясь на края утеса; особенно опасно было это при толпе народной. Сама церковь подрыта была кельями весьма низкими, которые прокопали себе новейшие труженики, под ее помостом, так что со временем она могла бы обрушиться. Господь удержал силой Своей церковь на скале и саму скалу, неколебимую от времен потопных, дабы украсить сию иноческую обитель; теперь в свою очередь инокам украшать скалу сию своими подвигами».
Мы взошли в обновленную благолепную церковь святителя Николая, которая за несколько только дней пред сим освящена была преосвященным Харьковским Филаретом; весь алтарь ее иссечен в меловом утесе и с южной стороны недавно выкопан также притвор для братии, а с запада пристроены сени с хорами, так что вместе с широким рундуком или террасой, довольно есть помещений; народ ежедневно сюда стекается для ранней литургии и после поздней, потому что усердствующие носят икону святителя на скалу, где читается акафист.
Когда мы опять вышли на террасу, настоятель спросил меня: «Нет ли мне чего знакомого, в том обширном виде, который открывался пред нами?» – и действительно я узнал киевское Заднепровье. «Вот здания нижних пещер, – говорил он, указывая на самую обитель у подошвы скалы, – вот и просека к станции Бровары, которая здесь ведет в старую усадьбу Студенка; вот и дальний Вышгород, образуемый высотами Кременца; скромный Донец вьется здесь, как будто бы сам величавый Днепр, а лесистая дебрь за ним, и эти горы, покрытые лесом с обеих сторон от нас, не напоминают ли вам Лаврскую гору и дремучие леса Заднепровья?» Только живописная дача Потемкиных была новостью в этой чудной картине; но она так сроднилась с обителью святогорской, что без нее здесь казалось бы пусто. Все сие очаровательное зрелище тонуло, можно сказать, в багровых лучах заходящего солнца и непрестанно изменявшиеся краски вечернего неба, разнообразием своих теней, умножали очарование.
«Не мудрено, – сказал я, – что иноки киевские, разбежавшиеся после разгрома монгольского из своей лавры, здесь приютились, обретши нечто подобное не только их пещерам, но и самой местности. Странно, что и на берегу Десны, в Брянске, куда была перенесена чудотворная икона Печерская в Свенскую обитель, есть также подобие местности киевской. Иноки печерские как будто бы во всем искали незабвенный для их сердца образ их заветной святыни, и старались основаться там, где только могли найти хотя что-либо ей подобное».
«Мы не можем утвердительно определить времена заселения Святогорья монахами киевскими, – возразил архимандрит, – но мы не можем сомневаться, что выходцы лавры Печерской основали нашу обитель: о том свидетельствуют, кроме ископанных пещер, храмовые праздники наши, сходные с печерскими и память святителя Николая, особенно чествуемая в Киеве и, вероятно, оттуда к нам перенесенная. Есть однако у нас и другое предание об основании святогорской обители, весьма замечательное. Говорят, будто однажды иноки афонские, плывшие в Россию, приняли ошибкой устье Дона за Днепровский лиман и, подымаясь вверх по реке, нашли это место, которое так живо напомнило им родную местность святогорскую, что они решились тут поселиться и даже сообщили сладкое название Святогорья неведомым дотоле скалам».
«И в этом предании может быть истина, – отвечал я, – как она таилась отчасти и в том, будто бы пещеры ваши сообщаются с киевскими, Антония и Феодосия; только тут ошибочно вставлен Днепр для украшения народной легенды. Известно, что во все время ига монгольского, после запустения Киева, Дон служил единственным сообщением Московского княжества с Царьградом, и этим путем ходили туда святители наши за поставлением, равно и греческие к нам за милостыней. Очень не мудрено, что иноки афонские, подымаясь вверх по Дону, ошибкой взошли в Северный Донец при его соединении с Доном, а может быть они надеялись здесь и на кратчайший путь; когда же обрели живописную местность Святогорья, пожелали в ней уединиться, особенно если тут нашли уже несколько русских подвижников, которые издавна спасались в вертепах. Кто знает, быть может и великие святители наши, Алексий и Иона, иногда этим путем спускались в Царьград, потому что Донец делается судоходным несколько ниже Белгорода, одной из древнейших епархий наших. Тогда их молитвами освятились и чудные сии места».
Архимандрит провел нас, через расселину камня, с террасы церковной на открытую площадку природной скалы, где совершилось торжественное молебствие, при обновлении обители. Величественна была эта картина, когда сам красноречивый Пастырь призывал здесь все стихии и царства природы участвовать в общем торжестве. «Над нами голубое небо юга, – говорил он, – и сеннолиственные древеса Украины; под нами величавый Донец и мирные стада с их пастырями; окрест нас скалы, сражавшиеся с волнами потопа и кельи тружеников, боровшихся с силами самого ада». Все это так и доселе, но мне жаль, что хотели ознаменовать это место памятником, как бы не довольствуясь тут величием одной природы. Боюсь, чтобы каменный шатер, поднявшись в уровень с утесами, не закрыл своей массой легкие их острия.
С этой площадки просечено отверстие в скале на другой балкон, висящий над бездной. Настоятель имел намерение заложить этот вход и устроить в его углублении часовню, но я убедил его оставить отверстие и балкон, и вместо часовни утвердить икону святителя Николая, снаружи на природной скале, с теплящейся пред ней лампадой, так чтобы еще издали всегда могли ее видеть приходящие из-за Донца богомольцы; я просил, тут же на террасе, поставить большой крест и образ Первозванного Апостола, в знамение того, что на сих горах, как на киевских, воссияла предсказанная им благодать Божия. Все это обещал исполнить настоятель и сохранить две малые кельи отшельников, которые выдолблены были в выдавшемся утесе, и даже окно в просеченной скале, где был прежде выход, чтобы можно было любоваться дальними видами на долину Донца и лесную дебрь.
«Посмотрите на этот утес, что с правой стороны, – сказал мне настоятель, – и скажите, можно ли было подозревать в нем жилье человеческое?» Я перегнулся через перила балкона и увидел на гладкой скале, висящей над пропастью, малое отверстие, как бы логовище, но не для зверя, а для птицы, потому что только на крыльях туда можно подняться. «Поверите ли, – продолжал архимандрит, – и, конечно, трудно поверить, если бы мы сами не были тому свидетелями, что тут обитал, даже при нас, тайный отшельник, и мы около полугода о том не знали, удивлялись только, что устье этой пещеры было черно и видали иногда как бы струю дыма, из него исходившую; однажды подстерегли однако человека, который вдруг скрылся с этого балкона, где мы теперь стоим. Я сам пришел сюда и стал умолять неведомого раба Божия, выйти из его вертепа, дабы не навлечь неприятности только что зарождавшемуся монастырю, если в нем будут скрываться неизвестные люди. Долго не было отзыва на мои увещания, так что я принужден был прибегнуть к угрозам, уверяя, что, не смотря на опасность, найду средство подмоститься к его скале. К общему изумлению нашему, внезапно явился из устья пещеры сухой изможденный человек, еще не преклонных лет, в одной сорочице; легко перепрыгнул он через пропасть из своей пещеры на острие противолежащего утеса, взлез на наш балкон и, молча поклонившись нам, удалился. Мы не любопытствовали спросить: ты кто еси? да он бы и не дал нам ответа, и с тех пор, вот уже шесть лет никто его не видал. Много пещер выдолблено прежними отшельниками в меловых утесах, которые выглядывают из лесной чащи над рекой. И так доселе есть еще труженики, подобно тем, что спасались в Фиваиде и Палестине, в первые века христианства».
«Расскажу вам еще об одном странном приключении, которому я также был свидетель, – продолжал архимандрит. – Однажды, возвратившись от утрени, еще до рассвета, вижу, что на этом остроконечном утесе, который всех выше, стоит как бы подобие человека в белом, с развевающейся от него хартией. Меня объял ужас; я принял это за мечтание бесовское и, чтобы проверить свои чувства, спросил келейника: не видит ли он чего-нибудь на утесе? – и он ужаснулся, то же самое, что и я. Тогда послал я братию на скалу посмотреть, что это за диво? – Оказалось, что крестьянин ближнего селения, будучи лунатиком, неведомо как взобрался на этот отвесный утес, к которому, как вы сами видите, ни откуда нет приступа. Сперва стоял он на одной ноге, потом сел на самое острие утеса, так что посыпались из-под него камни; он громко кричал, что ожидает свыше благодати, и по ветру развевалась длинная разрисованная хартия, которую он навязал себе на шею. Боялись назвать его по имени, чтобы не очнулся и не упал в пропасть, послали за становым, который по счастью случился в монастыре, и принесли шесты и веревки, чтобы его как-нибудь спустить. Между тем он сам очнулся и, в ужасе схватившись за скалу, с воплем умолял, чтобы его сняли; не малых трудов это стоило. С задней стороны утеса, где примыкает крытая галерея, приставили кое-как шесты на скалу и, бросив ему веревки, велели обмотать их за ее вершину; так он спустился с чрезвычайной опасностью; но я и до сих пор не понимаю, как он мог туда взобраться».
Начинало смеркаться, архимандрит повел нас обратно со скалы, уже не через внутренние пещеры, но
через наружное крыльцо, в виде крытой галереи, пятьюстами ступенями величественно спускающееся к подножию утеса. Это крыльцо, необходимое для удобного восхода и спуска, прежде весьма тяжкого по горной тропе, сооружено щедрым даянием одной благочестивой соседки Святогорья, Шабельской. Сперва хотели разделить лестницу на тридцать уступов, по числу ступеней духовной лествицы святого отшельника Синайского Иоанна, и начертать на каждом избранные слова из его высокого творения. Не знаю, почему оставлена сия первоначальная мысль, которая бы ознакомила многих простых богомольцев с духовной книгой Лествичника; вероятно, воспрепятствовала местность.
Я слышал еще прежде, что внутри скалы находилась тайная усыпальница братии, и просил архимандрита указать мне это священное место. Узкая дверь была видна в меловой скале там, где она вырастает из полугоры, но трудно было туда спуститься. Однако вместе с Пальмером, мы сбежали с галереи по крутизне к отверстию пещеры. По счастью, не была заперта дверь; там нашли небольшой коридор с поворотом направо, на конце его было окно; по сторонам видны погребальные ложи, числом до двенадцати, иссеченные углублениями в скале: тут отдыхают труженики, быть может, и нетленные, радующиеся на ложах своих. Пальмер, который не знаю почему предполагал, что в этой горней обители надлежало быть двенадцати, и не более, труженикам с их аввой, чрезвычайно обрадовался, увидев, что его предположение как бы исполнилось числом их гробниц. Невольное благоговение объяло нас во мраке тайной усыпальницы, в сердце скалы и мы помолились над прахом подвижников, смиренно оставивших нам одни безымянные свои кости, хотя, конечно, много неведомых для нас подвигов прославило ту скалу, в основание коей сами возлегли.
По строгости Глинского устава, перенесенного на Святые горы, женщины не имеют входа в кельи монашествующих, а потому настоятель, отпустив всех наших спутниц, пригласил к себе только меня с Пальмером. Мне желательно было собрать некоторые устные предания о начале настоящей обители, прежде нежели изгладятся они из памяти современников, как уже стерлись большей частью все сказания прежде бывшей, хотя протекло только шестьдесят лет от ее упразднения.
«Время это, – сказал мне архимандрит, – было для нее как бы пленением Вавилонским; но не оскудевала любовь окрестных и даже отдаленных жителей к святому месту, и постоянно стекался сюда народ, особенно в Успенский пост и на праздники святителя. О том что только сохранилось письменного касательно обители, вы можете прочесть в книжке нашего Архипастыря. Существовал монастырь достоверно с 1624-го года, по милостыне царской Михаила Феодоровича строителю Симеону с братией; но Святые горы известны еще гораздо ранее, с половины XVI века, по книге большого чертежа, где прямо сказано: от устья реки Оскола на Донце, с Крымской стороны, Святые горы. В древнем синодике, хранящемся в ризнице, говорится: что за многими татарскими разорениями и за частой переменой строителей не обретено, кто начально изобрел здесь святое жительство и в горе устроил келии и церковь».
«Записанное в грамотах и синодиках сохранится само собой, – сказал я настоятелю, – но мне бы любопытно было слышать от вас, как упразднилась и как обновилась обитель ваша».
«Могу лишь сказать вам то, чему сам был свидетелем, – продолжал он, – о прежней обители знаем только, что она была закрыта в 1788 году, почти в одно время с Межигорской, что под Киевом, при архимандрите Венедикте; тогда же были отписаны в казну две тысячи душ ее крестьян и двадцать семь тысяч десятин монастырского леса. Какая была главная причина упразднения пустыни, мы не знаем; устное предание гласит только, будто князю Таврическому полюбилось это место и он испросил себе нашу рощицу, как он ее называл, чтобы основать тут великолепные палаты; предположенное для них место показывают недалеко отсюда на горе. Странно, почему светлейший пожелал уничтожить здесь обитель и в Межигорах, когда в то же время он сооружал Корсунскую для единоверцев, на устье Днепра? Мудрено объяснить это одним произволом или пристрастием к живописной местности. Когда же, через шестьдесят лет, суждено было носящим тоже громкое имя, обновить святое место, утратилось уже предание о былом».
«Не ведаю, какими судьбами привелось мне здесь настоятельствовать. Отец Евстратий, игумен Глинской пустыни, послал меня в Петербург по делам монастырским и там встретился я с владетелями сего места; мы говорили о восстановлении запустевшей пустыни и они пригласили меня посетить Святые горы. Сердце мое наполнилось чувством радостного изумления, когда в первый раз неожиданно представилась мне, в чаще леса из-за Донца, меловая скала, у подножия коей мне суждено было оставаться. Я понял, что это место создано для пустыни и что не по какой-либо прихоти опять водружается тут обитель. Преосвященный Иннокентий, ревнитель сего обновления, поручил мне созвать братию и с ней предстать в Харьков, для заселения пустыни. Где же мне было искать ее, как не в родной нашей обители Глинской, где провели мы столько лет при блаженном старце нашем Филарете? До двенадцати человек братии согласились последовать за мной, и мы решились перенести сюда наш строгий устав Глинский, напоминающий афонский. Умилительно было, когда Преосвященный, собрав всю нашу братию перед амвоном своей крестовой церкви, сказал нам красноречивое слово о тех подвигах, которые нам предстояли на новом поприще. «Помыслите, – говорил он, – что вы идете обновить следы древних пустынножителей и мучеников, подвизавшихся на той скале, с которой вы должны светить миру чистым житием иноческим, и вот для укрепления вашего значение победы, победившее мир». При сих словах он мне вручил неожиданно животворящий крест, с которым вышел из алтаря для краткого слова, и опять удалился внутрь святилища; я остался, с крестом в руках, посреди братии и народа, глубоко тронутых тем, что слышали. «Крест сей послужит для нас благословением», – подумал я и положил его себе на грудь, как первый залог нашего здесь жительства. Я покажу его вам в алтаре нашей соборной церкви; в нем есть частицы святых мощей. И другое нечаянное благословение пришло, в то же время, укрепить дух наш, посреди предстоявших нам трудностей».
«Митрополит Киевский Филарет, обрадованный вестью обновления Святых гор, писал к преосвященному Иннокентию, чтобы прислал к нему нового строителя. Митрополит вручил мне список с чудотворной иконы Успения Богоматери, с частицами мощей преподобных Печерских. Таким образом, вторично от Киева, осенило Святые горы благословение древней его святыни. Икону сию с торжеством встретил, накануне обновления обители, наш Владыка, при стечении многочисленного народа, и, конечно, его глубокое слово, проникнувшее умилением сердца наши, достигло вдали и нашего слуха: «Откуда нам сие, да приидет Мати Господа нашего к нам? Святые горы, зрите, кто пришел к вам и преклоните верха ваши пред Царицей неба и земли». Не стану описывать вам торжества обновления, когда вся гора, от подошвы и до вершины, унизана была народом, ликующим об исполнении давно желанного, когда по словам Преосвященного: «Плен сей окончился, и сей Лазарь не три дня, а семьдесят лет лежавший во гробе, паки восстал», – все это в свое время рассказано и даже напечатано. Скажу только собственное мое радостное и вместе грустное чувство, когда еще, прежде сих торжеств, пришел один я с братией моей, принять во владение сию пустыню в полном смысле слова. Не из-за Донца, как в первый раз, но с вершины горы, увидали мы сию обетованную для нас землю и, хотя отрадно было в ней вселиться, однако тяготило нас чувство нашего крайнего убожества и беспомощности. И вот, с помощью Матери Божией и посланных ей благотворителей, святое место не осталось пусто. Как видите, обновлена скала, с двумя ее церквами, и устроен на нее вход внутренний и внешний, и ограда до половины окончена со всеми необходимыми службами, и вы уже молились в благолепной церкви Покрова Богоматери, над Святыми вратами, – и все это в течение семи лет; мы надеемся соорудить и новый собор Успения на месте ветхого».
«Но вы, конечно, сохраните прежний собор у святых ворот, – сказал я, – в память того, что он один, в продолжение долгого запустения, охранял предание о бывшей обители и всю ее святыню; если бы не привлекал он к себе ежегодно толпы народа, быть может совершенно бы запустело святое место».
«Желаем и его сохранить, – отвечал архимандрит. – Полковник Изюмского полка, Шидловский, основал сию церковь Успения в 1698 году, когда начали здесь селиться слободы Украинские и безопасность позволила монашествующим сойти со скалы, чтобы основаться у ее подножия, для большего удобства. Это была уже третья эпоха их жительства в здешней пустыне: сперва гнездились, страха ради, в сердце скалы, потом отважились выглянуть на ее вершину, наконец спустились к подошве, и странно, что тут посетило их запустение».
Мне хотелось, чтобы на следующий день ранняя литургия, с поминовением усопших, совершена была в подземной, недавно обновленной церкви святых Антония и Феодосия, о которой много слышали еще в столице. Я просил настоятеля рассказать мне о ее необычайном открытии.
«Оно действительно заслуживает внимания, – сказал архимандрит, – и трудно бы поверить, если бы мы сами не были тому свидетелями. Промыслу Божию угодно было обнаружить давно утаенное и сохранить для сего живую летопись, при оскудении письменной. При самом обновлении Святых гор, поместился в нашу обитель почти столетий труженик, бывший некогда служителем старого монастыря, и мы постригли его с именем Мафусаила, ради его глубокой старости; он же открыл нам как бы времена допотопные, потому что само предание о бывшей пещере утратилось; только молва народная говорила о каком-то сообщении с пещерами киевскими преподобных Антония и Феодосия, позабыв, что здесь существуют собственные. Как-то в молодости своей Мафусаил, пася стада, попал в лесу на след этой пещеры через слуховое ее окно, и хотя объявлял о том старцам монастырским, но, вероятно, неблагоприятные обстоятельства не позволили им тогда заняться ее очищением. Нам предоставлено было это утешение и для сего единственно сохранился между нами старец Мафусаил, который скончался в самый год открытия пещеры. Мы не обращали сперва внимания на его рассказы, да и кому могло прийти на мысль, что малая яма, на которую он указывал в чаще леса, была слуховым окном в подземную церковь. Не так судил о том однако преосвященный Иннокентий, когда я сообщил ему настоятельное указание старца; сам он потрудился приехать в Святые горы и, проведя несколько часов в беседе с Мафусаилом, велел немедленно приступить к работе, а между тем записывать все устные предания старца о бывшей обители».
«Братия, под начальством отца Виссариона, сами начали раскапывать яму и выносить оттуда землю: вообразите общее изумление, когда мы действительно нашли, что здесь есть слуховое окно и потом, этим тесным путем, спустились в алтарную часть подземной церкви, где обрели место жертвенника и престола, а потом отрыли и весь храм с его боковыми выходами. Если все это первоначально было вскопано иноческими руками, то и очищено опять ими же; братия по усердию сами выгребали землю и, в своих одеждах, выносили ее в слуховое окно; радость наша была исполнена. Но старцу Мафусаилу не суждено было видеть окончание указанного им подвига. Он как бы нарочно дожил до того только времени, пока ему поверили и открыли утаенное; однако и при самой смерти был виновником скорого обновления открытого им святилища. Когда вся братия со слезами соборно предавала земле тело его подле самой пещеры, в залог и память ее обретения, нечаянно проезжавший мимо купец изюмский, который не имел прежде особого расположения к обители, ни даже вообще к Церкви, полюбопытствовал, отчего такое собрание народа и усердие к усопшему? Когда же услышал рассказ о чудном обретении и увидел саму пещеру, только что разрытую, умилился сердцем и объявил мне желание немедленно устроить в ней церковь за свой счет; с тех пор сделался он ревнителем благочестия до самой кончины, вскоре воспоследовавшей. Таким образом простой старец Мафусаил, в самый час погребения, послужил к душевному спасению одного неведомого ему брата, а церковь, им обретенная под землей, доселе умиляет души в ней молящихся».
Поздно, уже при луне, возвратились мы в очаровательное наше жилище. Радушная хозяйка сидела на террасе и пригласила нас воспользоваться остатком летнего вечера на свежем воздухе. Сама теплая итальянская ночь, чтобы не сказать украинская, обвевала нас в роскошной вилле. Видя пред собой чудную обитель, только что возникшую из запустения, и ту, которая оживила, своим благочестивым усердием, сию грустную дотоле пустыню, я хотел услышать, из собственных ее уст: как пришла ей первая мысль обновить Святые горы? Так подслушал я однажды и поэтический рассказ старицы Бородинской, о начале ее мирной обители на поле ратном. Драгоценны такие предания свыше всякой летописи, потому что они умирают обыкновенно с теми смиренными лицами, которые сами почитают себя и свои деяния столь ничтожными, что зарывают их своим молчанием, вместе с собой, в тихую свою могилу; цвет и плоды видны, но корень глубоко зарастает в землю. Я спросил: «Каким образом узнала она о существовании и запустении Святых гор?»
«Вы, конечно, знали, – отвечала она, – двух запорожских монахов, Исаию и Мефодия, которые лет семнадцать тому назад приходили в Петербург, испрашивать себе где-либо место для постоянного жительства. Покойная графиня Орлова прислала их ко мне. Один из них, именно иеродиакон Исаия, первый начал мне рассказывать о Святых горах, выхваляя красоту места, и умоляя восстановить запустевшую обитель, дабы все запорожские монахи, пришедшие с ним из-за Дуная во время Турецкой войны, могли там поселиться. Ко мне же собственно обратился потому, что слышал о моем близком родстве с генералом Энгельгардтом, которому тогда принадлежало это имение, по наследству от дяди его князя Потемкина. Но хотя немедленно написали к нему, убеждая восстановить обитель, упраздненную князем, он однако решительно отказал. После его кончины, имение святогорское должно было разделиться на четыре части, между его сестрами, в числе коих была моя свекровь; но мы упросили княгиню Юсупову скупить себе все четыре участка, чтобы не разделилось такое прекрасное наследство, потому что у нас всегда была надежда когда-нибудь обновить пустынь. Княгиня отчасти исполнила наше желание, но колебалась восстановить обитель до последнего года своей жизни. Она вскоре скончалась, и это имение опять должно было разделиться на две части между ее сыновьями; однако муж мой решился лучше уступить что-нибудь в других имениях, лишь бы это вполне нам досталось, и уступить более тысячи душ, чтобы только получить Святые горы, потому что его сердце лежало к святому месту; но мы сперва имели намерение основать здесь женскую обитель. Отец Арсений отсоветовал мне просить о водворении инокинь в таком диком месте, где с самого начала подвизались монахи, и мы стали ходатайствовать о восстановлении мужской Святогорской пустыни, уделив для нее сколько было нужно леса и земли. Как видите, Бог благословил это дело, вероятно по молитвам святых старцев, которые долго здесь спасались».
Утешительно было слышать все это, из собственных ее уст, и достойно внимания, каким образом место, некогда упраздненное по произволу князя Потемкина, в течение шестидесяти лет, переходя из рук в руки между его наследниками, должно было непременно дождаться соименного ему владельца, чтобы возвратилось Божие Богу.
«Когда же увидели вы в первый раз Святые горы?» – спросил я. «Это впечатление всегда останется в моем сердце, – отвечала она. – Имение принадлежало еще княгине Юсуповой и, во время голода, она просила мужа моего посетить Святые горы, чтобы прекратить там некоторые беспорядки; мы обрадовались случаю и поспешили сюда приехать. Не могу вам выразить, что почувствовала душа моя, при виде этой чудной местности, явно предназначенной для пустыни и уже столько лет запустевшей. Не могли мы оба равнодушно смотреть на те места, где спасалось столько святых мужей, и где, быть может, таятся от нас их святые мощи. Нас тронуло и усердие народа, притекавшего постоянно к святому месту, не смотря на его запустение; все как бы ожидали, что оно воскреснет, и мы тогда же дали в душе своей обещание стараться, всеми силами, исполнить общее благочестивое желание, для пользы целого края. Вероятно, так угодно было Господу, потому что слабые труды наши не осталась тщетными, и мы ежедневно благодарим Бога, что не отринул нас, недостойных».
Так просто и смиренно рассказывала она родную для ее сердца повесть о начале обители, сама не замечая, сколько было красноречия в ее искреннем слове, которое олицетворялось пред нами на самом деле; глаза ее дополняли благодарными слезами то, чего быть может, не договаривала речь; а ночь была тихая, теплая, как и само ее слово, вытекавшее прямо из сердца, и кроткая луна освещала пред нами обновленную обитель святогорскую.
Отрадна для души была, на следующее утро, литургия в подземной церкви Антония и Феодосия. Она мне напомнила печерские службы, которые я так любил слушать в недрах земли родного Киева, и те, какие еще недавно сподобил меня Господь слышать в вертепах палестинских, Гефсимании, Вифлеема и лавры святого Саввы; я с ними так сроднился, что мне казалось уже как будто странным молиться, при свете дня, под открытым небом. Быть может, более умиление возбуждается в пещерах, потому что они невольно переносят воображение к первым временам христианства, согревая душу теплой молитвой тех веков, как будто бы все давно минувшее опять пред нами, и мужи апостольские снова подъемлют чистые свои руки к небу во мраке пещер. Недавно усопшие во Христе не были забыты в наших молитвах; молился с нами и Пальмер и, казалось, глубоко был тронут, ибо его сердце лежит к величественной нашей службе.
Нельзя, однако, определить времени ископания сей пещеры; во всяком случае, оно гораздо позднее келий мелового утеса, потому что сама правильность внутреннего расположения церкви и отделка сводов показывает, что над ними трудились люди, искавшие не только приюта, но и благолепия в катакомбах. Не то мы видим В Киеве, где тесные церкви и переходы ископаны неправильно, судя по тому, как позволяла местность, и поддерживаются столбами. Обновители святогорские ископали еще, с правой стороны церкви, келью для братии; прочее же осталось неприкосновенным и, кажется, не восходит далее ХV или XIV века. Странно, как могла позабыть о сей подземной церкви братия прежде бывшей обители; это может служить свидетельством, что она не была в слишком цветущем состоянии в последнее свое время. Пред устьем пещеры поклонились мы могиле открывшего ее старца Мафусаила; тут же начали погребаться именитые роды из окрестности, так что это место сделалось почетной усыпальницей обители.
Лодка ожидала напротив святых ворот, чтобы тотчас после обедни плыть вверх по Донцу, к так называемому Святому месту, где был некогда скит и где снова хотят его устроить. Многие версты от святых ворот до малой часовни, на берегу, куда совершается ежегодно, накануне праздника Успения, крестный ход на ладьях, в память обновления обители. Это шествие по водам должно быть весьма торжественно, при множестве народа, плывущего в различных челноках вслед за священнослужителями, по мановению руководственных хоругвей. От сей часовни отлогая стезя повела нас по лесной чаще в гору, до крутого вала, устроенного в виде батареи, где заметно было и место ворот.
«Это была действительно батарея, – сказал мне настоятель, и ее устроил усердный инок Иаков-пушкарь, как его называли по прежнему ремеслу, лет за сто тому назад, при архимандрите Рафаиле, одним из последних и самом именитом по своей добродетели. Должно предполагать, что не без причины протянут был этот вал в лесной чаще, от горы и до горы поперек ущелья; они сходятся позади скита, образуя треугольную площадь отовсюду огражденную; опасность от набегов крымских, вероятно, вынудила скитников озаботиться и физическим укреплением места духовных своих подвигов. Тут обнаруживается, какими средствами владела тогда обитель, если под руководством пушкаря-инока могли срыть целую гору, чтобы завалить овраг для сооружения этого вала; хотя он отчасти осыпался, но еще сохранился крутой обрыв и над ним высокая терраса, для нового скита; отвесные горы, покрытые лесами, не допускают никакого сообщения с окрестностью, кроме одной малой тропы, проложенной в обитель; но ее надобно уничтожить, дабы совершенно удалить скит от путей человеческих; только водой, и то с благословения настоятеля, можно будет посещать его, а поверх вала станет ограда и ключ от калитки будет у начальника скита. Тут у входа мы хотим построить деревянную церковь, во имя великого пустынножителя Арсения, а за ней расположены будут кельи в сосновой роще, и там, если Богу будет угодно, окончит дни свои и нынешний настоятель обители».
А я мысленно приготовил священный дар для скитской церкви: мраморный ковчег в виде саркофага, который был обретен недавно в развалинах одного храма в Анатолии, близ города Тарса, отечества святого Апостола Павла; он должен принадлежать, по своей древней форме и начертанию греческих букв, к отдаленным временам христианства, VII или VIII веку, и надпись его, конечно, приличествует сему месту:
«мощи преподобного отца нашего Арсения великого». Хотя теперь уже нет частицы мощей в киоте, но и сам киот, конечно, драгоценным будет залогом для скита, украшенного именем великого отшельника.
«Не напоминают ли вам эти меловые утесы, – спросил меня настоятель, – ущелье святого Саввы, которое все пробито кельями отшельников? Вот и в наших скалах есть следы пещер прежних скитников; быть может и новые в них водворятся».
Действительно в этих скалах есть нечто саввинское плачевной юдоли, хотя местность совсем другая: там природа вооружилась всеми своими ужасами, для испытания терпения подвижников, а здесь она роскошно осенила все ущелье богатой растительности, приготовив малый Эдем для искателей безмолвия. По мере того, как мы продвигались по сосновой роще вглубь ущелья, оно все стеснялось пред нами и наконец отвесная гора преградила всякий выход.
«Здесь, в этом углу, была некогда церковь скитская, – сказал настоятель, – которую перенесли, во время запустения обители, в соседнее имение Шабельских; но теперь они с избытком заплатили нам за бывшее наше наследие, устроением великолепной лестницы на скалу святителя Николая. Тут же около церкви находится и усыпальница братская, как видно из потревоженной могилами земли».
«Но отчего же не хотите вы соорудить здесь церкви, – спросил я, – на старом месте, которое освящено уже молитвой стольких подвижников?»
«Сам Архипастырь указал нам и уже освятил предназначенное место для церкви, у входа в скит, – отвечал архимандрит, – и не следует переменять сего места, потому что так будет удобнее для любителей безмолвия. Приходящие извне, чтобы помолиться в скиту, не будут проникать далее в жилье отшельников, и развлекать их внимания; они же могут беспрепятственно пользоваться уединением сосновой рощи до самой глубины ущелья. Но здесь мы можем со временем построить малую кладбищенскую церковь, над могилами прежних и будущих отшельников, когда опять населится это святое место».
«Когда же это совершится?» – спросил я настоятеля.
«Спросите о том владетельницу Святых гор, – с улыбкой отвечал настоятель, указывая на спутницу нашу. – Без нее мы не можем всего вдруг восстановить своими средствами. Благодарим и за то, что уже сделано; главная теперь забота наша об окончании ограды, без которой не может существовать никакая обитель. На будущий год обещают нам построить деревянную церковь и келии в скиту; с утешением ждем их и надеемся, а скитники уже готовы, и вот один из них», – продолжал он, указывая на отца Германа, пришедшего после нас, уединенной тропой из обители.
В приятной беседе неприметно спустились мы к нашей лодке; ожидавшие нас спутники сказали, что в наше отсутствие две больших змеи, которых много на этом месте, от скитского берега быстро переплыли пред нами на противолежащий. Но они не страшны будущим скитникам, памятующим обетование евангельское: «Змия возьмут; аще и что вредно испиют, не вредит им».
Всенощное бдение заключило вечер этого дня, по случаю совершившегося радостного для всей России двадцатипятилетия царского венчания ее Помазанника. И мы в вечер сей, как и на следующее утро, за божественной литургией в пустыне Святогорской, присоединили молитвы наши к тем, которые в то же время, при собрании всего царского семейства и синклита, возносились в присутствии самого виновника торжества, в первопрестольной его столице. Если не в Кремле, то, конечно, в этой пустыне, обновленной во дни его славной державы, отрадно было молиться, в такие минуты, близкие каждому русскому сердцу, которое утешается светлым царем своим пред лицом темного Запада. Я изумился стройности и благолепию служения в обители только что собравшейся, где все было ново, и здания и братия, а между тем казалось, будто бы здесь никогда не прерывался древний чин и быт, от начала киевского и афонского.
На другой день в четверток, собственно посвященный памяти великого святителя Николая, я просил настоятеля, чтобы он сам отслужил литургию на вершине скалы и позволил мне нести образ Чудотворца, по внутренним пещерам до верхней церкви. Рано утром, при пении стихир Богоматери и святителю, мы взошли крестным ходом внутрь пещер, со свечами в руках и с обеими иконами, Пречистой Девы и Чудотворца. Усердствующие богомольцы сменяли друг друга, для их несения по крутому подъему, и в числе их был Пальмер, благоговейно подымавший святые иконы, с усердием, достойным сына Православной Церкви. Он оставлял в этот день Святые горы и потому еще ревностнее разделял свою молитву с православными. Во внутренней церкви остановились для чтения акафиста, который прочел наизусть сам настоятель, и умилительно было слушать его в той самой церкви, где на столпе явилась икона святителя и где долго был единственный дом молитвы для многих подвижников. Потом мы вышли опять на божий свет, на темя скалы, при пении ликов, как бы воскресшие из недр земли, и литургия совершилась торжественно в обновленном храме.
Когда мы сошли со скалы в келью настоятеля, он сказал на прощание назидательное слово отходящему в путь диакону английскому, который был очень тронут этим изъявлением христианской любви. Архимандрит убеждал его не отлагать на новые испытания благовременного общения с Православной Церковью, не ведая, что принесет утрешний день, и в простоте духа засвидетельствовать устами истину догматов, коим уже уверовал сердцем и в которых заключается спасение наше. У Пальмера таилась своя религиозная, хотя довольно отвлеченная мысль: искать присоединения, только при известных ему условиях, в епархии Филадельфийской Малой Азии, потому что церковь сия была одной из семи апокалиптических и сохранила непрерывное преемство своих епископов, от времен святого Иоанна Богослова. В таинственных словах Господа к Ангелу сей церкви, Пальмеру казалось видеть некоторые черты сходства с нынешним состоянием не Римского Запада. Я просил его также спешить в эту Филадельфию, имя коей выражает по-гречески «Братолюбие», или искать ее в лоне российской Церкви, братолюбно отверзающей свои объятия приходящим к ней с верой и смирением.
Все общество святогорское провожало труженика английского, за двадцать верст от обители, до заштатного города Славянска, где недавно открылись минеральные воды, серные и соленогорькие. Они успели прославиться во всей Украине, и к ним стекаются за исцелением много семейств, из ближних и дальних губерний, потому что их целебные силы против золотухи и простуды уже испытаны; благотворный климат Украины дает им преимущество пред старорусскими. Преосвященный Иннокентий называл их силоамской купелью, и они открылись почти в одно время с духовной купелью святогорской; обе купели пользуют свойственные им недуги: одна телесные, другая духовные; купающиеся в Славянске приезжают по воскресным дням в Святые горы, и в эти дни не приготовляют даже ванн для болящих; молитва восставляет дух их, в то самое время, как обновляются их силы целебными водами.
По возвращении из Славянска, мне любопытно было видеть некоторые окрестности пустыни Святогорской, особенно те, откуда открывались на нее лучшие виды, и самый тыл лесистых высот, к коим она приникла. Поднявшись на крутую гору, около дома Потемкиных, мы обогнули ее вершину и за ней, в прилежащих оврагах, посетили сад и пчельники монастырские и хозяйственные службы, где производятся все работы для постоянных построек по обители. Все это кипело жизнью и удивительно, как могла столь быстро возникнуть такая деятельность в сей пустыне. Колодец в виде артезианского, чрезвычайной глубины, ископан был там, где едва надеялись обрести воду; трехдневный пост наложил настоятель на всю братию, с усердной молитвой о даровании живительной струи, и благословил Господь успехом дело, начатое молитвой.
Отпустив лошадей близ вершины горы, вдвоем с настоятелем, поднялись мы лесистой тропой, на самое темя Фавора, как называют свою гору пустынные жители ее, ибо и Фавор обозначен исключительно именем Святой горы, в посланиях апостольских; потом спустились опять к гребню мелового утеса, там, где отделяется он из лесной чащи в подножие храму. Был вечер, и заходящее солнце багровыми лучами озарило пред нами ту же чудную картину, которой мы восхищались в первый день.
«Теперь, – сказал мне настоятель, – я приведу вас в келью затворника, мимо коей мы прежде проходили два раза по многолюдству, ибо он никого не принимает, и вас примет только ради послушания. Благодарим Бога, что он послал нашей обители такое утешение, напоминающее нам о первых веках христианства, а мы это тем более ценим, что никто из нас вначале не хотел верить решимости затворника. Он пришел со мной, в числе двенадцати человек из Глинской пустыни, и ничем особенным не отличался от прочей братии. Я назначил ему в последнее время послушание на гостинице, и он два года проходил, без всякого ропота, эту трудную должность, совершенно противоположную направлению его духа. Быть может сия непрестанная молва внушила ему ту жажду безмолвия, которая так решительно окончилась затвором. После смерти старца духовника нашего Феодосия, который оставил по себе общее сожаление, бывший гостинник объявил мне свое непременное желание заключиться в скале. Долго я ему отсоветывал, представляя всю духовную опасность такого подвига, но он пребыл тверд в своем намерении. Чтобы удержать его, я сказал, что уже заключившись однажды, он не должен выходить из келии, в течение целого года и что я возьму к себе ключ от его двери; он и на то благодушно согласился, и тогда я исполнил его желание, признаюсь, не без большого сомнения; братия открыто говорили, что и недели не просидит он в затворе, и даже после того ежедневно ожидали его выхода; но так прошел целый год. Я посещал его не более раза в месяц; келейник приносил ему сухари и воду, на несколько дней, и похлебку в субботу и воскресенье. На Пасху, в первый раз, он вышел в церковь, примыкающую к его келии, чтобы приобщиться Святых Тайн: надобно было видеть общее изумление братии; недоверчивость обратилась в глубокое уважение, и с тех пор некоторые из старших избрали его своим духовником. Мы предложили ему сойти со скалы в общую трапезу; он не согласился и только сошел в келью своего послушника у начала лестницы; но и там, просидев один день, просился опять в затвор, потому что отвык беседовать с людьми. С тех пор, около полугода, опять подвизается в заключении и только просит меня позволить ему выходить в прилежащий малый коридор, потому что ноги его пухнут от недостатка движения; но лице его светло и свежо, как вы сами увидите, и я замечаю, из его беседы, зрелость в предметах духовных, какой в нем не бывало прежде; душа его созрела в безмолвии. Господь помиловал его от сильных искушений, уныния и страхов ночных; он говорит, что едва находит время, в течение суток, совершить положенное им правило, акафисты, псалтырь и отеческие книги, чтение коих распределено у него по часам; только глаза слабеют от непрестанных занятий при свете лампады, потому что луч дневной едва проникает в его келью, сквозь малую скважину скалы; я дал ему часы, чтобы мог узнавать время; но пойдемте, вы все сами увидите».
Мы спустились внутрь скалы; келейник встретил нас, с пуком зажженных свечей, в узких переходах внутреннего монастыря, и повел к заключенной келии; двери ее отворились по молитвенному возгласу настоятеля. Затворник стоял в мантии и епитрахили у аналоя, и совершал вечернее правило; взор его был спокоен и светел; лице не представляло никаких следов изнурения. Я вспомнил отроков вавилонских, которых пост не лишил обычной свежести пред лицом царя. При тусклом свете лампады окинул я взором келью: в ней едва ли была квадратная сажень; в восточном углу висели иконы; малая скамья служила для отдохновения днем, отверстый гроб для ночного покоя; оставалось только закрыть его, и довершено поприще затворника. Не много кратких речей обменяли мы друг с другом: я боялся нарушить его богомыслие и спросил только: «Не одолевают ли его иногда дух уныния и страхование ночные?»
«Все возможно в укрепляющем нас Господе», – смиренно отвечал он, и я не смел далее вопрошать, просил лишь его молитв и благословения, и вышел из келии, проникнутый чувством глубокого благоговения к такому подвигу и подвижнику.
Признаюсь, когда мне случалось проходить в пещерах киевских, мимо малых оконцев затворников, с молитвой к их прежде бывшим жителям, мне приходила иногда тайная мысль: как могли они подвизаться целую жизнь в столь жестоком затворе? И вот я видел, собственными глазами, подобный же подвиг, но только в сердце каменной скалы вместо пещеры. Когда мы вышли на божий свет из нутра утеса, чтобы спуститься по внешней лестнице, луна уже серебрила густые ветви дерев, нависшие с горы на этот величественный спуск. Мы продолжали беседу нашу об иночестве и о той пользе духовной, которую могла принести обновленная обитель для всей окрестности, особенно при таких подвижниках.
«Благодарение Богу, – сказал архимандрит, – при всем недостоинстве нашем и при самом начале общежития, мы уже видим плоды обновления святогорского, во всей Украине и даже на Дону: так сильно скорбели о давнем запустение святого места, и так велика была жажда его обновления, что при самом начале обители как будто оживилась вся окрестность и толпами стали сюда стекаться из ближних и дальних стран, как бы на русский Афон; в короткое время собралось братства более ста человек; от одной искры вспыхнуло пламя. Благоприятно самое название, ибо все здесь как бы заблаговременно освящено: кроме Святых гор, есть и святое место для скита и даже святым слывет озеро, где бывает наша рыбная ловля. И теперь, благодаря усердию владельцев места, мы имеем довольно обширную церковь над вратами, в ожидании собора; но до сего времени мы не знали, как управиться с народом в Успенский пост. Вы видели, как тесна старая церковь, а надобно было удовлетворять духовным потребностям нескольких тысяч. Верите ли, что накануне праздника, пользуясь благоприятной погодой, мы исповедовали и приобщали народ под открытым небом, около церкви, потому что не было возможности преподавать в ней Святые Тайны, от тесноты и духоты. Несколько священников выходили с дарами к народу, за двери церковные как бы из алтаря, и поистине это было зрелище умилительное, напоминавшее первые века. Особенно обременен был исповедью покойный отец Феодосий, общий духовник обители, к которому все преимущественно притекали по его духовной опытности; его потеря для нас очень чувствительна, потому что он был монах в полном смысле этого слова. Если бы вы знали, сколько он принес пользы для одних военных, которые заезжали сюда, по дороге на Кавказ, и слагало здесь бремя греховное, иногда за несколько дней до кончины, их ожидавшей на поле битвы. Помню, сюда приехал однажды, на несколько часов только и то из любопытства, молодой офицер, который и не думал говеть; но, будучи поражен усердным говением народа, спросил, может ли и он приобщиться на следующее утро, потому что время не дозволяло ему медлить? Отец Феодосий усомнился допустить так скоро пылкого юношу до Святых Тайн, но впервые очувствовавшийся сказал духовнику: «Если теперь меня не причастите, то может быть мне не удастся более исполнить христианского долга», и ему оказано снисхождение; он уехал с чрезвычайным утешением, а впоследствии мы слышали, что в первом деле с горцами был убит. И так нечаянное, краткое посещение Святой горы, открыло ему врата вечной жизни, и сколько бы таких еще неведомых нам случаев можно было насчитать! Да и простой народ, который не всегда может найти в сельских церквах опытных духовников, не обретает ли здесь, при более свободном времени, и более назидания и исповеди у наших старцев, которые отчетливо спрашивают у каждого не только о его грехах, но и о вере, проясняя по мере возможности мрак неведения сих младенчествующих сынов Церкви. Вот истинная польза всякой обители и нашей еще более, потому что она единственная на обширном пространстве Украины, и к ней уже искони привыкло благочестие народное».
Хотя было поздно, но по моему желанию настоятель вывел меня из ограды на усыпальницу братскую, чтобы поклониться могиле знаменитого архимандрита Рафаила, память коего многими почитается и доселе.
«Здесь была некогда кладбищенская церковь, во имя верховных Апостолов, – сказал архимандрит, – а с помощью благотворителей надеемся ее опять соорудить на этом погребальном холме. Мы, было, хотели тут устроить часовню, для непрестающего чтения псалтыря, но не решились оставлять в пустом месте одинокого брата, дабы не искусился он страхованиями ночными, ибо здесь мимо ходящие видали иногда тусклые огоньки над кладбищем. Теперь псалтырь читается у нас в келии при Святых вратах». И действительно, подходя к ним, увидели мы слабый свет в одной келии и старца, стоящего на всенощном бдении, за упокой усопших. Как умилителен этот древний обычай некоторых обителей Православной Церкви, материнской любовью объемлющей живых и мертвых!
Наутро, в день субботний, исключительно посвященной памяти Богоматери, совершен был торжественный акафист, по чину афонскому, перенесенному и на сию Святую гору. Настоятель сам читал на распеве первые песни канона, как это бывает там в лаврах болгарских, и диаконы кадили кругом церковь, с сионами наподобие храмов, на плечах. Много таких сионов сохранилось в древних ризницах соборных, и жаль, что этот величественный обряд исполняется теперь только в немногих древних обителях.
После литургии мы опять поднялись на горы и подъехали к тому месту, где некогда хотел построить свои пышные палаты великолепный князь Тавриды, как его называл в своих одах певец Фелицы. Лесной берег глубокими обрывами спускается к Донцу, и обширные виды открываются во все стороны; но мне более нравится нынешняя местность дачи владельцев Святогорья. Очаровательный вид представляется с их террасы, картиной, а не панорамой, как с места, избранного светлейшим; там более простора для глаз, но менее живописного, и как различны были побуждения при основании обеих жилищ: для одного закрыта была древняя обитель, другое же возникло только по случаю ее обновления; потому и благословил Господь сооружение сего мирного жилища, предав запустению гордые начатки первого.
Пешие спустились мы к селу Богородицы, где ожидала нас лодка, чтобы плыть вверх по Донцу, в плодовитый сад, принадлежавший некогда монастырю. Живописно было течение реки между берегов, поросших лесом; правая нагорная сторона, с меловыми утесами, местами представляла чудное зрелище: горы иногда возвышались уступами одна за другой, иногда раскидывались амфитеатром около своенравных изгибов Донца. Видно было по кельям, пробитым в меловых утесах, что святое место сие было некогда заселено пустынниками, которые имели средоточием главный утес святогорский, с его церковью. Сад в чаще леса, богатый яблонями и грушами, с минеральным источником, представлял готовое место для уединенного скита, где отшельники могли питаться плодами. Есть еще несколько таких садов вдоль по берегу реки, и замечательно, как вся природа святогорская будто нарочно создана для обитания иноческого. Нам желательно было слышать воскресную всенощную, на вершине утеса в церкви святителя Николая, и настоятель, обрадованный приездом владельца Святогорья, хотел доставить нам полное утешение. Мы поднялись в вечернем сумраке на темя скалы; многие остались слушать божественную службу, на открытом рундуке около церкви; иногда выходил я подышать свежим воздухом, и отрадно было смотреть с этого балкона внутрь храма, ярко горевшего светом лампад, и вниз на глубокую долину Донца, кое-где освещенную огоньками; казалось, служба совершалась не на земле и не земные слышались лики из Божьего дома. Когда же окончилась и мы вышли опять на террасу, вся она была освещена разноцветными огнями, которыми унизали острия утесов и купол малой церкви и уступы длинной лестницы, так что снизу вся скала представлялась одним пламенным столбом. Полная луна, поднявшаяся из-за лесной чащи подле самой главы церковной, небесным светом дополнила красоту земного. Все богомольцы в пустыне, приятно изумленные нечаянностью такого освещения, поспешили за мост на противоположный берег Донца, чтобы оттуда еще лучше полюбоваться чудным видом горящей скалы и лунным столбом, который отражался во всю ширину реки. С дачи Потемкиных еще иначе представлялась сия картина: в чаще леса, как бы огненными ступенями, восходила величественная лестница от земли на небо. А заключенный в скале отшельник, подумал я, молится теперь внутри ее как бы во гробе, и не ведает, что около него совершается: до него не доходят голоса восходящего и нисходящего народа, хотя лестница близка к его келии; но звуки не проникают сквозь толщину камня, и в его узкую щель не видно блеска огней, венчающих гребень утеса, который заживо избрал он себе могилой! Вот истинное отречение от мира, столь противоположное нашим житейским суетам. Воскресная литургия, с напутственным молебном, совершена была по моей просьбе настоятелем, опять в пещерной церкви преподобных Антония и Феодосия; так после семидневного пребывания, с молитвой оставил я Святые горы, исполненный их сладкими и священными впечатлениями, которые никогда не изгладятся из моей памяти и сердца.
1856 г.
Оптина пустынь
Есть места, которые сами по себе не ознаменованы ни особенной красотой природы, ни воспоминаниями историческими, или другим чем-либо могущим поразить воображение с первого взгляда, но которые оставляют в сердце глубокое впечатление, потому что оно проникает постепенно и уже более не может изгладиться. Такова Оптина пустынь, место мало кому известное, ибо недавно только прославилась духовными добродетелями своих иноков и скитников. Я не предпринимал особенного странствия, чтобы посетить ее, как Святые горы; она встретилась на пути моем по калужской дороге, когда возвращался в Москву из Брянска; но в ней, совершенно нечаянно, обрел я такое духовное утешение и назидание, как и я всегда желал найти в обителях, особенно пустынных, и на сей раз вполне удовлетворилось мое сердце: потому и говорят уста от его избытка.
Если спросят: «Что это за Оптина пустынь?» – я обращу читателей к подробному историческому описанию сей Козельской, Введенской пустыни, недавно изданному, которых может удовлетвориться любопытство каждого. Скажу только, что она получила начало лет за четыреста тому назад, в засеках, устраиваемых тогда на Руси против разбойников, и что один из вождей их тут уединился, под именем безвестного отшельника Опты; если же изумятся такому началу, напомню, что и молитве, часто повторяемой нами в торжественную минуту приобщения: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», научились мы также от разбойника. Скажу еще, что пустынь сия, мало знаменитая в летописях, и пустела, и обновлялась в своей безвестности. Митрополит Платон прозорливым оком постиг ее духовное значение и восстановил, взяв для нее на Песноши, у благочестивого игумена Макария, который сам был учеником великого старца молдавского, в настоятели Аврамия; когда же опять оскудела она нравственными силами, то бывший епископ калужский, ныне святительствующий в Киеве, вызвал из глубины лесов смоленских нового ревнителя Моисея, который уже тридцать лет тут подвизается в трудном звании настоятеля. Довольно и сего о начале и обновлении Оптиной пустыни; отстранив все описательное, я бы желал только изобразить, как она мне представилась со стороны духовной: такие еще сокровища таятся на святой Руси, кроме иных ее духовных богатств.
Приятными для взора представился мне первый вид на Оптину пустынь, когда я подъезжал к ней по луговой дороге из Козельска; ее белые здания выходили из густого леса, в который она вся углубилась, как приличествует пристанищу безмолвия; скромная, но быстрая Жиздра отделяла ее, с лицевой стороны, от жилья человеческого, полагая природную черту между миром и отшельниками. Переплыв на монастырском пароме реку, я взошел в Святые врата обители, и когда, подымаясь по уступам горного восхода до других внутренних ворот, я оглянулся, мне представилась противоположная сторона картины: весь город Козельск, с его многочисленными храмами, в живописной дали. Мне пришло на мысль летописное сказание о долговременной осаде, которую отважился выдержать этот маловажный город, со своим юным безвестным князем, против несметных полчищ Батыя, не привыкших встречать себе нигде препоны, и вот единственное воспоминание историческое, которым может похвалиться местность Оптиной пустыни.
Посетив собор, я поспешил к настоятелю, в его отдельный домик, и по счастью застал его в келии, потому что это было тотчас после малой вечерни: еще оставалось довольно времени до начала всенощной на праздник рождества Богоматери. Благосклонно принял меня настоятель, отец Моисей; он был предварен о моем приезде братом своим, игуменом Малоярославским Антонием, с которым я виделся в его монастыре. Третьего брата, игумена саровского Исаию, я знал прежде и мне утешительно было довершить здесь знакомство с благочестивым их семейством, в лице старшего из них, о котором давно слышал, как о восстановителе Оптиной пустыни. Действительно, кроме двух соборов, благолепно им украшенных, все, сколько есть каменных хороших зданий в обители, и ограда и келии, все это дело рук его, потому что его предместник ничего ему не оставил; а скит есть совершенно его создание, еще более в отношении духовном, нежели вещественном; он положил прочное начало и ему верно последовали его преемники.
Этот скит был первым предметом нашей беседы, и я просил отца Моисея позволить мне его осмотреть до всенощной, потому что на другой день полагал продолжать путь свой. Радушный игумен извинялся, что не может сам мне сопутствовать в скит, так как готовился служить литургию на праздник; он хотел уже послать со мной своего келейника, когда взошли в его келью два почтенных старца. В одном узнал я, с чрезвычайной радостью, отца игумена А., который по счастливому для меня случаю в этот самый день прибыл в обитель, другого же мне назвал сам настоятель: это был Макарий, начальник скита, которого уже давно я знал если не лично, то по утешительной о нем молве. Не всегда можно встретить соединенными в одной келии трех подобных мужей, достойно носящих иноческие имена свои, а кто имел это утешение, должен благодарить Господа, что не оскудели еще на земле благоговейные рабы его.
«Вот вам лучшие спутники для посещения скита, – сказал мне настоятель, – потому что оба там начальствовали и могут вполне удовлетворить ваше любопытство». Я весьма обрадовался счастливому случаю, который мне столь неожиданно представился. Отец Антоний ежегодно посещает пустынь для утоления своей духовной жажды; он скорбит об удалении из любимого им скита, где провел восемнадцать лет, и о начальственном своем одиночестве в Малом Ярославце. Сколько можно судить по первому взгляду, мне показалось такого рода различие в сих трех замечательных характерах: в одном строгость духовная и углубление во внутреннюю клеть своего сердца, от долгого пустынножительства и соответственно своему начальническому положению; в другом детская простота и любовь, непрестанно изливающаяся из его сердца, в каждом приветливом слове и действии; в третьем созерцательность, примененная опытом к назиданию тех, которые вручили себя его руководству, и между тем не знаешь, кому из трех отдать преимущество.
Мы вышли из ограды монастырской в лес, некогда дремучий и еще недавно густой, который за несколько лет пред сим прояснила страшная буря, сломав вековые деревья. В его чаще, менее нежели за полверсты от пустыни, основана была любителем безмолвия на кафедре епископской другая внутренняя пустыня для уединенных подвижников, и процвела яко крин, по выражению библейскому. Старцы сетовали на опустошение их лесной ограды, а мне казалось, что как будто отъемлется древесная завеса от места их уединения, дабы проявлялся миру созревший уже плод духовного их подвига. У низкой деревянной ограды начальник скита позвонил в колокольчик, а игумен Антоний указал мне на лики преподобных пустынножителей, начертанные на Святых вратах. «Посмотрите, кто здесь приветствует входящих, – сказал он, – великие Антоний, Евфимий и Савва, и наши преподобные основатели жития иноческого; с их благословения и молитвой взойдем внутрь ограды». Взошли и нас обвеяло ароматом цветов, которыми усажен весь скит по краям его перекрестных дорожек; высокие георгины, в полном цвете, обозначали их направление и под ними смиренно благоухала притаившаяся резеда, подобие скромной добродетели иноческой. Пустынный скит представился мне цветущим садом и не напрасно носил он на себе внешний образ Эдема, взращивая и внутренне райские плоды сердечной чистоты и послушания.
Назидательно было видеть, как оба старца, меня руководившие, смирялись взаимно, будто стараясь укрыться один за другого: настоящий начальник скита уступал первенство тому, кто начальствовал там прежде него в течение многих лет, и все приписывал его старанию и совету; а тот со своей стороны, где только мог, и на пути, и в кельях скитников, старался занять второе место, относя все благие успехи брату своему, как основателю, и настоящему начальнику скита. При таком духовном настроении каждое их простое слово падало прямо в сердце, напоминая глубокое слово великого аввы Макария, о добродетели смирения, которая должна научать нас держать себя так низко, чтобы и упасть было невозможно.
Старцы ввели меня сперва в свою скромную церковь, которая, под именем домовой архиерейской, устроена в уединенном лесном приюте бывшего епископа Калужского, во имя пустынножителя Иоанна Крестителя, на память усекновения честной его главы за слово истины. Пред церковью находились малые жилые келии ее основателя, а в молитвенном покое портреты блаженных пастырей и ревнителей жития иноческого: Афанасия Пателария, патриарха Цареградского, который нетленно почивает в Лубнах, сидя на кафедре святительской; епископа Иоасафа Горленко, прославленного нетлением в соборном храме Белгорода, где он устроил над местом, указанным для своего погребения, придел в память страшного суда: едва ли это не единственный в России, и он свидетельствует о непрестанном памятовании судилища Христова благочестивым Пастырем, готовым на оное предстать. Третий портрет знаменитого ученостью архипастыря астраханского Никифора Феотоки, родом грека, принесшего в Россию глубокую ученость с подвижничеством Святой горы и украсившего Церковь православную своими писаниями. Тут же и великий между новейшими архипастырями Платон, который, но выражению покойного митрополита Серафима, вырастил вокруг себя как бы цельный рассадник архиереев, все из своих учеников, занявших первостепенные кафедры, а для пустыни Оптиной памятный ее обновлением. Приятно было встретить такой духовный собор в преддверии храма Предтечи, их руководителя.
Из церкви мы пошли на усыпальницу братскую; в сумраке я ее принял за пчельник, потому что некоторые надгробные доски, со свежими надписями, еще стояли прислоненные к насыпанным могилам: и действительно тут собран духовный рой тружеников скитских, не вотще подвизавшихся и оставивших по себе сладкие соты воспоминаний об их примерной жизни. Мне указали свежую еще могилу старца схииеромонаха Иоанна, которого я знал по его творениям. Родившись и проведя большую часть жизни в расколе поповщины, он уже в преклонных летах был взыскан благодатью Божией и, познав истину, чрез посещение благоговейных старцев в некоторых древних обителях, сам последовал по их стопам в Оптиной пустыни; в уединении скитском довершил он, в прошлом году, свой молитвенный подвиг и остаток жизни посвятил деятельной заботе об обращении тех, с коими долго заблуждался. Оптина пустынь, при своих скудных средствах, издала в свет несколько его сочинений: о твердости Православной Церкви, о духе мудрования различных толков и об истине трехперстного сложения.
Читая гробовые надписи, я нашел нечаянно могилу давнего моего знакомца, бывшего игумена Валаамского Варлаама, который за семнадцать лет пред сим радушно принимал меня на своем пустынном острове. Он скончался в безмолвии скитском, удаленный от настоятельской должности, а я не знал места его последнего упокоения: сколько таких неожиданных встреч на житейском поприще! Как листья, разносимые ветром, разлетаются неведомо друг другу, бывшие некогда вместе, как бы на одном ветвистом дереве, и кто соберет разнесенные? После стольких лет вот где обрел я следы старца Варлаама, разбирая надписи неведомых могил: мир усопшему восьмидесятилетнему старцу! Другого инока валаамского недавно обрел я еще в живых на святой горе Афонской: и туда посыпалось также несколько листьев с пустынного древа.
Старцы пригласили меня взойти в близлежащий к усыпальнице домик скитский, где в трех отдельных кельях жили три брата из новоначальных. Один из них еще юноша, только что достигший совершеннолетия, получив образование в военном училище, оставил молву житейскую, чтобы посвятить себя Богу; он дал обет удалиться в монастырь, во время тяжкой, почти безнадежной болезни и, исцелившись, сдержал слово. Вообще в скиту довольно есть дворян; сам начальник происходит из сего звания и послужил отечеству, прежде нежели отрекся от мира. Приветливость его привлекает к нему многих, ибо он обращается со всеми не как строгий начальник, но с отеческой искренней любовью; день и ночь отверсты каждому двери его келии и сердца. Так как во всем скиту не более двадцати человек, то есть возможность удовлетворять духовной потребности братии и подробно испытывать характер учеников; в этом собственно и есть преимущество скита над обителью, где само многолюдство не всегда дозволяет такую общительность между главой и членами. Правила Оптинского скита несколько отличны от других: там время расположено таким образом, чтобы в промежутке молитв было место и для занятий, а потому собственно, в субботы только и в воскресенья положена полная церковная служба; в прочие дни читается в церкви неусыпно один лишь псалтырь по усопшим, всеми поочередно, по два часа, а утреня, часы и вечерня с правилом, совершаются по кельям, где сходятся на молитву два или три брата под наблюдением старшего; но за всеми строго надзирает сам отец Макарий, дабы совестливо исполнялось это правило, и для того часто и неожиданно посещает все келии. Он непременно требует сверх того, чтобы каждый был занят каким-либо рукодельем, как для избежания праздности, так и для пользы общественной, а дабы укреплялись движением телесные силы; почти в каждой келии заведены токарные станки, и братья весьма охотно занимаются некоторыми полевыми работами, как то уборкой сена на лугах монастырских, или у себя садоводством; отсего вся внутренность их скита приятно обратилась в один ароматный цветник.
Вообще должно сказать, что отец Макарий являет, вместе с большой опытностью, много сердечной духовной теплоты в управлении вверенного ему малого стада, и потому так плодовиты труды его; особенно действительны искренняя любовь его и откровенное обращение, возбуждающие такую же искренность и со стороны подчиненных. Я не видал напряженного изъявления монашеского послушания пред его лицом, в частых земных поклонах не всегда искренних, ни потупленного взора с принужденной молчаливостью; напротив, все открыто смотрели ему в глаза, потому что у них не было на сердце ничего для него тайного, изъявляя, однако, глубокое пред ним уважение в каждом слове и действии, и садились только с его дозволений; но все это было совершенно просто, так что, казалось, он обращался в кругу своего семейства и, конечно, с нелицемерным сердцем может сказать: «Се аз и дети яже даде ми Бог». Не в похвалу доброму старцу, не нуждающемуся в земной славе, излагаю здесь то приятное впечатление, которое он произвел на меня в кругу своих духовных чад, но для назидания нашей братии мирян и для примера ищущим ему подражать.
Мы застали юношу послушника в его келейной одежде, в белом хитоне, препоясанном ремнем; его постоянное рукоделие есть переписка церковных книг, красивым почерком, и переплет их, в чем особенно искусен. Он нисколько не смутился посетителями и, с дозволения настоятеля, сев между нами, беседовал непринужденно. Рядом с его кельей мы вошли в другую, где жил его товарищ из купеческого звания; токарный станок был его занятием. Мы пригласили с собой молодого скитника и перешли в другой отдельный домик, где подвизались трое братьев духовного звания, постоянным упражнением коих были переводы душеполезных книг, издаваемых обителью; так как они получили образование в семинарии, то и старались употребить на пользу данный им от Бога талант. Мы взошли и в третий домик, где нашли послушника из дворян, трудящегося также над токарным станком. Потом настоятель повел нас в огражденную келью первого труженика Иоанникия, подвизавшегося тут еще до начала скита, в чаще леса, при строителе Аврамии. Память его в большем уважении у окрестных жителей, благоговейно посещающих бывшую его келью.
Отец Макарий пригласил нас и в свое жилище до начала всенощной; с нами вошло несколько из его учеников; но сам он уступал во всем первенство отцу игумену, как бы возвращаясь пред ним на степень простого брата, и все это было столь же любовно, сколь непринужденно. Легко текла взаимная беседа наша, как будто мы давно было все знакомы, хотя впервые встретились на жизненном поприще. Ударили в колокол к всенощной в обители, но не в скиту, потому что во все двунадесятые праздники, по чину пустынному, скитники не имеют у себя службы, но обязаны приходить для братского общения в обитель, к всенощному бдению, к литургии и за трапезу. Я весьма пожалел, что буду лишен утешения присутствовать на скитской службе, потому что на следующий день думал оставить пустынь тотчас после обедни. По первому звуку колокола поднялись оба старца; у святых ворот собралась вся братия скитская, и вслед за своим начальником потянулись, как рои пчел, вылетающие из улья за своей маткой, чтобы собирать благоуханный мед молитвы. Умилительно и вместе торжественно было это шествие, в сумраке вечера по густому лесу, освещаемое одиноким фонарем, при звуке благовеста: такие минуты памятны. Все это были чистые души, более и более очищающие себя от плевы житейской, и непрестанно бодрствующие о своем спасении, чрез воспоминание смертного часа. И одного человека, с таким расположением духовным, отрадно встретить, а тут собралось целое общество людей, более или менее совершенных и постоянно стремящихся к усовершенствованию. Их будто обвеяло ароматом скитских уединенных цветов, и этот духовный цветник напоминал о духовном палестинском луге Иоанна Мосха. Такие мысли и воспоминания наполняли мое сердце, когда мы вступили в Божий храм, где сам игумен совершал божественную службу, при строгом благоговении, которое соблюдалось во время четырехчасового бдения; царствовала глубокая тишина и слышны были только одни церковные молитвы.
Я видел в течение одного месяца несколько таких всенощных бдений в трех пустынных обителях: на Белых берегах, в Святых горах и здесь, в Оптиной пустыне, и ни одно не показалось мне утомительным, несмотря на свою продолжительность: это происходило, частью от глубокого внимания священнослужителей, от ясного чтения и приятного пения ликов по их древним пустынным напевам, частью же от самого разнообразия, с каким благоразумно положили опытные отцы совершать сии долгие службы, собственно для того, чтобы священными обрядами и попеременным чтением и пением, благоговейно поддерживать внимание молящихся. Таким образом, кроме благолепных выходов полным собором, из алтаря на средину храма, для литии, благословения хлебов и для величания праздника, при неоднократном каждении диаконов, есть еще умилительные пустынные порядки. По окончании вечерни, пред началом шестопсалмия, погашают все свечи и лампады, так что вся церковь погружается в священный сумрак и слова псаломные, тихо произносимые, как бы просиявая огненными чертами из сего мрака, глубоко запечатлеваются в сердце слушателей; потом, при окончании кафизм, мало-помалу начинают опять возжигать свечи в паникадилах пред иконостасом, доколе наконец в полном блеске воссияет весь храм, возжжением главного хороса или паникадила, в минуту величания.
Чтение поучений отеческих, после первой кафизмы псалтыря, дает отдых вместедушевный и телесный, если мы только хотим внимать сим поучениям, ибо во время их дозволено садиться, равно как при чтении самих кафизм и паремий, и это троекратное сидение расположено таким образом, чтобы братия могла отдыхать в продолжение службы; посему и не утомляются ей внимательные, особенно знающие ее обычный порядок, если даже и не каждое слово доходит до их слуха; напротив того, люди, не приучившие себя с молодых лет к следованию за божественной службой, скучают и утомляются ей, хотя бы и ясно доходили до них слова молитв, потому что для неразумеющих они будут как кимвал бряцающий и медь звенящая, по выражению Апостола, они чувствуют себя как бы потерянными в этом безбрежном для них море неведомого чтения и пения, хотя и на родном наречии. Чья же тут вина, Церкви или их собственного к ней невнимания?
Да простится мне одно сравнение, быть может, не достойное высокого предмета, о котором говорю, но употребленное мной здесь для лучшего уразумения моей мысли. Люди, неопытные в музыке, особенно в итальянской, с первого раза не находят большого удовольствия в зрелищах, соединенных с такого рода музыкой, и готовы удалиться, если бы не боялись показать себя пред другими несведущими; но когда они к ней привыкают и им уже известно, от частого повторения одного и того же представления, весь его ход и лучшие части, то уже они не скучают его продолжительностью и согласны присутствовать на оном ежедневно. Что если бы хотя малую долю такого усердия к увеселению светскому, весьма недавно занесенному к нам из чужой земли, мы уделили, с той же внимательностью, священному пению ликов накануне церковных праздников, которое искони перешло к нам в наследие от предков. Принудив себя несколько в начале, чтобы вновь приобрести утраченный нами навык, мы бы конечно опять в короткое время привязались к священным звукам, в которых отзывается нашему сердцу не одна только Церковь, но и неразлучная с ней святая Русь: отечественное возобладало бы вновь над иноземным, и тогда навечерия празднеств достойны были бы для нас тех великих событий нашего искупления, о которых они должны нам напоминать.
По окончании всенощной отец Макарий, прощаясь, сказал мне, что он испросил у настоятеля дозволение отслужить в скиту раннюю обедню, дабы я не лишен был утешения присутствовать при божественной службе в их ските; меня тронуло такое снисхождение к пришельцу, со стороны людей весьма строгих к самим себе, но это было выражением их христианской любви. На следующее утро я еще был у себя в келии, когда добрый игумен Антоний пришел звать меня в скит к обедне. В этой отрадной пустыне на каждом шагу выражалось благосклонное внимание сих примерных старцев, как и в каждом их слове духовная простота; отец Макарий уже шел к нам на встречу, чтобы предупредить о начале службы; читали часы, в церкви не было никого, кроме скитской братии; не более пяти голосов пели стройно и тихо; священнослужители проникнуты были глубоким вниманием к страшному действию, совершаемому ими, и чувство их благоговения невольно проникало в душу предстоявших.
После обедни мы зашли опять в келью начальника и провели около часа времени, до поздней литургии, в приятной беседе. Оба старца любопытствовали слышать о Востоке, а наипаче о Святой горе и лаврах палестинских, по образцу коих устроили собственный чин. Мне же приятно было видеть пред собой в лицах то, о чем им рассказывал: подвижничество первых времен христианства, перенесенное на родную нашу почву, где дало столь обильные цвет и плод. Ударили в колокол к поздней литургии и вся иноческая семья, где только я один был пришельцем, пошла опять в обитель в соборный храм Введения Богоматери, где сам настоятель совершал божественную службу. Народа было довольно из окрестных селений и соседнего города, хотя не столько как стекается в иные праздники; виной тому был храмовый праздник в самом городе. Большое стечение богомольцев в сию пустынь свидетельствует, какую духовную потребность чувствуют в ней смиренные горожане и поселяне, хотя имеют у себя церкви.
У нашего доброго и благочестивого народа весьма прозорливо духовное око, безотчетно влекущее его туда, где может найти назидание и молитву по сердцу. Как только заметит он где-либо, вблизи или вдали, благоговейное братство, соответствующее своему высокому назначению, уже он сам собой туда стремится, чтобы утолить свою духовную жажду из чистого источника. Не надобно посылать его; сердце скажет ему, куда идти; чем строже устав, чем протяжнее богослужение, тем ревностнее он туда стремится, как бы в обличение нам, людям большого света, с такой скупостью рассчитывающими не только часы, но самые минуты наших развлеченных молитв; и здесь невольно вспомнишь евангельские слова, когда возвеселися духом Иисус и рече: «Исповедаютися, Отче, Господи небеси и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем: ей Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою» (Лк. 10:21).
Соседние помещики собрались все после обедни в келии глубокоуважаемого ими отца игумена, чтобы воспользоваться его назидательной беседой в ожидании трапезы, и когда ударил час ее, пошли за ним, одни чтобы разделить ее с братией, другие чтобы хотя несколько присутствовать при чтении духовном во время трапезы. Новое здание трапезы устроено не весьма давно, сообразно умножившемуся числу монашествующих Оптиной пустыни, и это было также делом заботливого игумена. Сама пища, хоть и праздничная, была весьма скромная, и глубокая тишина царствовала в обширной палате; никто не смел произнести праздного слова, так что каждое слово читающего брата доходило до слуха. Настоятель пригласил меня посетить его после краткого отдыха, а между тем добрый брат его предложил зайти с ним к замечательному страдальцу, иеродиакону Мефодию, который уже семнадцать лет разбит параличом и благодушествует.
Мы нашли его лежащим на полу в больничной келье, под надзором одного послушника из отставных солдат, и на вопрос мой: почему не положили болящего на кровать, приставник отвечал, что сам он никак не хочет на это согласиться. Обрадовался страдалец, увидев знакомого отца Антония, и мог только выразить свою радость крестным знамением уцелевшей руки и словом: «Господи помилуй», которое одно лишь непрестанно повторяет с лицом веселым. Что ни скажешь ему, если поймет, отвечает: «Господи помилуй», и крестится; если запоют пред ним какую-либо церковную песнь, что он весьма любит, потому что долго был уставщиком на клиросе, то и он повторят некоторые слова, но больше не может, потому что память его не совсем свежа, но страдалец не перестает благодарить Бога. Дай Бог каждому такое терпение на болезненном одре! Многие посещают его ради духовного назидания, но он скучает посетителями и желает тишины.
Потом просил я отца Антония показать мне гробницы двух подвижников, в одно время устраивавших пустынь: игумена Аврамия, жившего еще при митрополите Платоне, и старца Иоанникия, жившего в скиту. Игумен показал мне их внутри соборного храма, со стороны южного придела, и тут же около него остановил меня над гробовым памятником одного недавнего подвижника, отца Леонида, о котором далеко разнеслась молва. «Мы много пользовались его духовным назиданием, – сказал игумен, – и потеря его чувствительна не только для здешнего братства, но и для всей окрестности, потому что многие прибегали к его духовной опытности и имели его своим наставником. Изящный над ним памятник свидетельствует об уважении к усопшему». Прежде нежели сказать несколько слов об отце Леониде, необходимо раскрыть, к какому высокому по духу братству он принадлежал, кто были его сподвижники и кто великий обновитель иночества на Руси и даже отчасти на Востоке, от которого произошло столько знаменитых учеников, в свою очередь послуживших для назидания иночества.
Едва ли известно кому-либо из светских имя Паисия Нямецкого, который был светилом монашества наших времен, просияв сперва на Востоке, подобно отцу иночествующих Антонию. Но многим ли знакомо святое житие и сего Антония, как описал его другой великий муж Церкви, Афанасий, патриарх Александрийский? Мало-помалу стерлись бы с лица земли священные следы великих ее поборников, если бы она сама как истинная мать, не соблюдала их, чествуя ежегодно память своих подвижников: драгоценно для нее и для нас воспоминание сего Паисия, обновителя иночества на Руси.
Он родился в последние годы царствования Петра Великого, в Полтаве, (где его отец, по прозванию Величковский, был священником), и подобно Феодосию Печерскому, сиротой остался на попечении матери. В Киеве, где тогда было средоточие просвещения духовного всей Малороссии, послан был для обучения отрок, но душа его стремилась к жизни духовной и почти первым его чтением были высокие творения Лествичника, Григория Синаита и Симеона Нового Богослова. Жажда безмолвия привлекла его в обитель, в окрестностях Киева, и там был пострижен в рясофор, благочестивым игуменом Никифором, из Петра переименованный Платоном; но гонения униатские принудили его возвратиться в город, и он временно поселился в лавре, занявшись при ее типографии иконным писанием. Там обрела его мать, долго сетовавшая о безвременной с ним разлуке, и по его убеждению сама постриглась, как это случилось и с матерью Печерского Феодосия. Устроив таким образом все близкое для него на земле, юноша Платон хотел помышлять только о небесном и, услышав о духовном процветании иночества в Молдавии, под сенью православных ее господарей, туда удалился в скит Трейстенский. Неподалеку от него обрел он себе опытного наставника в схимонахе Василии, который словом и писанием назидал братию, и еще двух соотечественников, старца Михаила и пустынножителя Онуфрия, достойных подражателей уважаемого ими Василия. Три года провел под их руководством юноша-инок, в различных пустынях и скитах Молдавии, более и более укрепляясь на свои подвиги; но еще не удовлетворилось пламенное его сердце, жаждавшее совершенного безмолвия, и со слезами отторгшись от своих великих старцев, он удалился на гору Афонскую, где надеялся обрести желаемое.
К сожалению, это было бедственное время для Святой горы; от непрестанных притеснений турецких, она находилась в состоянии упадка духовного, и юный труженик, пришедший сперва в лавру Святого Афанасия, напрасно искал себе мужа просвещенного духовно, дабы совершенно вверять себя его руководству. Он должен был поселиться один в каливе, или уединенной келье, близ обители Пантократора, потому что нашел по соседству несколько братий славянского языка, и там, в совершенном одиночестве, предался самым тяжким подвигам жизни пустынной. Спустя несколько времени обрил его старец схимонах Василий, вызванный для совещания на Святую гору, и постриг двадцатичетырехлетнего старца в сан иноческий, или лучше сказать ангельский образ, который уже носил на земле; он дал ему имя Паисия, неизменно им сохраненное до конца жизни, даже и в схиме. Вскоре пришел к нему из Молдавии усердный сподвижник, молодой монах Виссарион, который, не обретая себе также наставника на Святой горе, со слезами умолил Паисия взять его к себе в келью; с трудом согласился на это смиренный отшельник, но первым условием положил совершенное между ними равенство; вместо же отца и наставника оба они должны были сочетать для себя духовные творения святых Отцов.
Недолго однако наслаждались любимым уединением пустынножители русские; молва о их добродетели привлекла к ним новых сотрудников, которых напрасно старался всеми мерами отклонить от себя Паисий, налагая на них трехлетний искус до принятия в свое сообщество. Число их постепенно умножалось и, чувствуя необходимость в духовном отце, они убедили наконец смиренного наставника, вопреки его желанию, принять на себя сан священства, от которого бежал из Молдавии; но смирение его было побеждено необходимостью и общей пользой, ибо не мог укрыться под спудом такой светильник.
Так много собралось братий около пустынной келии святого Константина, где вначале поселился Паисий, что он вынужден был для их успокоения испросить себе у обители Пантократора упраздненный скит святого пророка Илии, и туда перешел со своей духовной семьей, по благословению жившего на покое в обители патриарха Цареградского Константина. Он создал там церковь, трапезу, странноприимницу и шестнадцать келий, но их было недостаточно для возраставшей непрестанно братии и они прилепляли себе извне убогие хижины к стене монастырской, чтобы только не удаляться от своего руководителя. Паисий разделял их по двум языкам, славянскому и молдавскому, и на обоих совершалось благолепное богослужение, отовсюду привлекавшее богомольцев; сам же он, тщательно учась языку греческому, от одного из учеников своих Макария, отыскивал по всей горе Афонской творения святых Отцов, для перевода на славянский к назиданию братства; перевод сей сделался постоянным занятием всей его жизни, так что и на болезненном одре не оставлял он трудиться над книгами отеческими. Слава о нем разнеслась по Святой горе, и Паисий, стесняемый многолюдством, испросил себе у собора святогорского обитель Симо-Петры, упраздненную тогда по долгам ее владельцев, но вскоре должен был ее оставить, потому что заимодавцы турецкие начали требовать с него долг монахов греческих.
Тогда старец Паисий, видя, что уже ему не предстоит никакой возможности оставаться долее на Святой горе, решился удалиться со всеми своими учениками в Молдавию, куда призывали его благочестивый господарь Каллимахи и митрополит Гавриил. Напрасно собор афонский и патриарх Серафим умоляли его пребыть еще с ними; сами они, видя крайность его положений, вынуждены были уступить необходимости, и Паиcий, с шестидесятою четырьмя учениками из славян и молдаван, на двух кораблях вверил себя морю, чтобы плыть в землю, ему обетованную. Мимо Царьграда достиг он благополучно устья Дуная, и вся семья иноческая вышла на берег в Галаце. Милостиво принял их владетель Молдавии и даровал для жительства в Буковине обитель Драгомирну, где немедленно устроился весь чин горы Афонской, по уставу святых Отцов; сам Паисий принял схиму от руки пришедшего к нему друга и соученика Алексия, с которым вместе находился и в училищах киевских, и под руководством старца Василия. Совершенное нестяжание и общежитие положены было в основание новой обители: никто из братий не смел ничего называть своим, необходимое раздавалось, и все, в совершенном послушании, непрестанно трудились над рукоделием для пользы монастырской, не оставляя и службы церковной, которую совершали с чрезвычайным благолепием, также на двух языках. Не были забыты странные и болящие; для них устроил богадельню чадолюбивый Паисий, поручил надзору опытного инока врача Онория, а сам наипаче радел о духовных недугах и ежедневно за трапезой поучал братию, из переведенных им книг отеческих, один день по-славянски, другой по-молдавски, присоединяя к тому свои назидательные толкования.
О том, как совестливо занимался он переводом книг отеческих и с каким смирением не доверял собственным трудам, можно судить из письма его к бывшему ученику своему, архимандриту Софрониевской пустыни, Феодосию, который просил его прислать сей перевод для напечатания. Старец описывал подробно: каких трудов стоило ему обрести рукописные подлинники греческие на Святой горе, не в библиотеках, где они были мало известны, но в уединенном ските у одного ученого инока, и как он в течение многих лет трудился над их переводом, с помощью искреннего брата, и потом над исправлением своего перевода; но жаловался на его несовершенство и самих списков, и потому не решался издавать в свет в столь недостаточном виде. Это любопытное письмо, проникнутое духом христианского смирения и выражающее тогдашнее состояние горы Афонской, напечатано вместе с прочими при его жизнеописании, которое издано усердием старцев Оптиной пустыни. Там же, из писем к старцам обители Поляномерульской и к другу его иерею Димитрию, искавшему монашества, и к основательнице Арзамасской общины Марии Протасьевой, можно ясно видеть, каким помазанием духовным был исполнен блаженный старец. Оно вполне выражалось и в мудром управлении обителью, которой братство принесло в краткое время обильный плод: каждый инок имел свободный доступ к своему авве и он, по дару прозорливости, предупреждал искреннее сознание виновных, сам начиная беседу будто бы о собственных грехах и тем возбуждая к покаянию. Таков был сей чудный старец, истинное зерцало монашества и отголосок древних отцов пустыни.
Но и его постигли новые скорби на мирном поприще, и он опять увидел себя в необходимости оставить то безбурное пристанище, которое думал себе упрочить до конца жизни. После шестнадцатилетней брани России и Австрии с Турцией, заключен был мирный договор, по которому часть Молдавии, Буковина, уступлена Австрии: обитель Драгомирны перешла под область латинскую; начались гонения униатов, от которых уже бежал однажды Паисий из родных пределов. Посреди сей тяжкой скорби старец был утешен призывным посланием игумена пограничной обители Секула, который предлагал перейти к нему со всем братством и занять почти опустевший монастырь Предтечи; на просьбу о том старца Паисия последовало милостивое разрешение господаря Гики и митрополита Гавриила. Но тесно было их жительство посреди лесистых ущелий над стремниной потока, хотя оно и удобно, было для безмолвия иноческого. Ревностный старец перенес в Секул строгий устав Драгомирны и до трехсот братий привел с собой, кроме тех, которые с плачем остались при двух духовниках в прежней обители; но такое множество не могло себе найти удобного помещения в новой; вынужденный просьбами своих учеников, отец Паисий писал прошение к новому господарю Константину Мурузи, о даровании ему пространнейшей обители и, по совету одного из бояр молдавских, предназначена была для него обитель Нямецкая, на расстоянии двух часов от Секула, но и это не без скорби: с одной стороны, новая обитель была слишком открыта и тем мало способна к безмолвной жизни; с другой стороны, населявшие ее иноки громко роптали на Паисия, как бы вторгшегося силой в их достояние.
Смиренный старец испугался такого нарекания и написал второе отрицательное письмо к господарю, уверяя, что он лучше готов претерпеть всякую тесноту в прежней своей обители, нежели приобрести чуждую против воли ее иноков; но в ответ получил краткое слово: «Сотвори послушание и иди в Нямец, ничтоже рассуждая». Тогда великий авва, хотя и удручаемый болезнью от душевной скорби, подвигся ради любимого им послушания со всем своим братством; он пришел в обитель Нямецкую в навечерие праздника Успения и, приложившись К чудотворной иконе Богоматери, погрузился в глубокий сон, давно уже его не посещавший, после которого получил внезапное облегчение. На другой день он мог совершить сам торжественную литургию и, призвав к себе старцев обители Нямецкой, утешил их своей любовью так, что они, отложив всякий ропот, предали ему добровольно свои души в руководство. Чин Драгомирной восстановился в Нямецкой при четырехстах братий, исполнивших внезапно саму обитель и все окрестные скиты; хотя многочисленные богомольцы и стужали любителям безмолвия, но заботливый настоятель умножил странноприимницы и удовлетворял нуждам пришельцев, особенно в день храмового праздника Вознесения Господня, когда бывало наибольшее стечение народа, но иноческого терпения доставало для всех.
Возгоралась новая война с Турцией и войска русские вступили в пределы Молдавии. С князем Таврическим прибыл в Яссы архиепископ Амвросий, который, услышав о высокой добродетели Паисия, пожелал посетить его обитель. Когда же увидел собственными очами то, чему едва верил по слуху, и самого маститого старца, окруженного сонмом учеников своих, он посвятил его на первой литургии в сан архимандрита, дабы утешить всю братию изъявлением глубокого своего уважения к их авве; но не превознесся почестью смиренный и ни в чем не изменил образа жизни, день и ночь трудясь над переводом книг отеческих, даже до крайнего изнеможения, ибо спешил окончить начатое. Несмотря на семидесятидвухлетнюю старость, свежо было его лице и светло как бы ангельское, взор ясен и тих, и сладостна речь, всех к нему привлекавшая; весь он был облечен в любовь, говорить описатель его жизни, и ум его соединен любовью с Богом; от избытка же сей любви непрестанно текли слезы. Иногда и дар предвиденья присоединялся к его духовной прозорливости: он предсказал господарю Гики предстоявшую ему смерть от меча турецкого; случались и исцеления при его теплой молитве, но Паисий не замечал ее действия во глубине своего смирения.
Имел он тайное извещение о приближающейся кончине, потому что за несколько дней оставил совершенно перевод книг, занимаясь только исправлением рукописей. Четыре дня продолжалась тяжкая болезнь, но в день воскресный, почувствовав облегчение, пожелал слушать божественную литургию и сам приобщился Святых Тайн, с трудом однако мог возвратиться в келью, где проболел еще три дня. Там пожелал совершенного безмолвия, принимая одних старейших; в день же смерти, пригласив обоих духовников, Софрония – славянского языка и Сильвестра – молдавского, чрез них послал благословение всему братству и предал чистую свою душу в руки Божии, 15 ноября 1794 года (оба они были в последствии, один за другим, настоятелями обители Нямецкой). Не случилось епископа при его погребении, но оно совершилось при многочисленном стечении народа и общий плач свидетельствовал о любви к усопшему. Так окончил, труженический свой подвиг великий авва Паисий; он жив для нас и поныне в своих учениках, которыми наделил землю русскую, восстановив ими многие запустевшие ее обители.
Первым и более других знаменитым был Феодосий, архимандрит Курской Софрониевой пустыни, который долго жил вместе с ним в Молдавии, под руководством великого старца Василия. Он вызван был князем Потемкиным, когда турки разорили его пустынный скит и, переселившись в Россию со всеми учениками своими, сделался у нас рассадником иночества, потому что из Софрониевой пустыни возникли многие опытные настоятели в различные обители наши. Много он трудился, со старцем своим Паисием и после него, над переводом отеческих книг, из коих некоторые послал митрополиту Новгородскому Гавриилу, мужу высокого благочестия и духовной опытности, в котором ученики Паисия обрели себе достойного покровителя: потому так успешно привилась их многоветвистая отрасль к русскому корню и дала обильный плод. Благочестивый пастырь, первенствовавший член Святейшего Синода, как только узнавал о людях такого духа, каковы были ученики Паисия, немедленно вверял им пустынные обители. Благодетельное лицо для всей отечественной Церкви был сей мудрый владыка Гавриил, достойно поставленный на свечнике престольной кафедры, с высоты коей светил многие годы всему Православию.
Другим именитым выходцем Молдавии был старец Клеопа, также друг и ученик Паисия, с которым много подвизался на Святой горе и в обители Драгомирны, принявший у нас настоятельство Островской пустыни, где ввел устав афонский. Ученик его Игнатий, достойный учителя, сперва наследовал ему в управлении пустыни, потом же вызван был митрополитом Гавриилом в Тихвин монастырь, где ввел тот же устав, и наконец, в Симонов, в котором устроил общежитие. Второй ученик Клеопы, Макарий, в течение двадцати лет, до нашествия французов, был настоятелем Песношской обители святителя Николая, которую утвердил на строгих правилах благочестия; она и доселе может почитаться образцовой в Московской епархии, и многих учеников своих дала в настоятели иным пустыням: оттоле вышли Авраам в Оптину и Феофан Новоезерский в Кириллов монастырь, и старец Самуил в Голутвин, что близ Коломны, и еще несколько других. Подобно как на севере последователи Паисия обретали себе высокого покровителя в лице митрополита Гавриила, так и в первопрестольной Москве достойным ценителем их добродетелей был просвещенный митрополит Платон; оттого так быстро распространялась жизнь пустынная по всей России, в исходе минувшего столетья.
Еще один иеромонах Клеопа, с другом своим схимником Феодором, вышли из Молдавии, в первых годах нынешнего столетия, и постепенно оживили своим присутствием пустыни Орловской губернии, Челнскую и Белобережскую, которые были в совершенном упадке. К ним присоединился еще некто старец Василий, родом из дворян, называвший себя бродягой, потому что он переходил из монастыря в монастырь, оставаясь в каждом столько времени, сколько нужно было для водворения там строгого устава, и старец Моисей, из оружейников тульских, глубоко постигший звание иночества. Приняв вскоре после Василия настоятельство Белобережской пустыни, он возвел ее, в течение тридцати лет, на высокую степень совершенства духовного, и только недавно скончался. Схимник Феодор, обитавший с ним в пустыне, перешел впоследствии вместе с Клеопой на Валаам, куда вызван был в настоятели из Сарова опытный старец Назарий, по воле митрополита Гавриила. Там окончил духовное поприще Клеопа, а схимник Феодор – в обители Свирской, оставив по себе многих учеников, ибо везде возбуждали они искру жития духовного.
Между последователями старца Паисия было еще два Афанасия, оба из дворян, но один из службы воинской, а другой из гражданской, посвятившие себя на служение Богу, под рясой иноческой. Первый, пришедши в Россию от великого старца, поселился в пустыне Флорищевой, недалеко от Владимира, и потом основался в Площанской в пределах Орловских, где многих назидал словом и примером. Достойно внимания, что в это время процвели преимущественно пустыни Орловские, наиболее посещаемые учениками Паисия, и между ними Белобережская, дотоле забытая, на время сделалась, как бы некая лавра, рассадником иночества. Но и в Москву доходили назидания Афанасия, ибо от него приняли в Новоспасском монастыре духовное слово два добродетельных старца, Александр, бывший потом архимандритом Арзамасским, и Филарет, в схиме Феодор, недавно скончавшийся и многим еще памятный; оба они были руководителями нынешнего настоятеля Оптиной пустыни. Другой Афанасий долго подвизался в Молдавии, под начальством самого старца Паисия и его преемника Софрония и, возвратясь в отечество, уединился близ Брянска, в Свенской обители, где скончался на руках соименного ему труженика, о котором упоминали. Он доставил митрополиту Гавриилу сокровище духовное Паисия, его рукопись «Добротолюбие», составленную и переведенную им с греческого, из назидательных творений двадцати четырех святых Отцов, которую заботливо издал в свет просвещенный архипастырь.
Называть ли еще Павла, болезненного, который из Молдавии переселился в Симонов монастырь и там, много пострадав от французов при разорении столицы, уже не вставал с одра своего, но еще для многих служил наставником благочестия. И сколько еще других имен можно бы поместить в этот список ближайших учеников и последователей великого аввы Паисия? Тут и Филарет, знаменитый настоятель Глинской пустыни, давший ей особенный строгий устав, который перенесен теперь в обновленную обитель Святогорскую; тут и благоговейные иноки Герасим и Феофан, и выходец Молдавии Арсений, живший в лесах брянских, и еще иные, менее известные, которые послужили к спасению своих собратьев в различных пустынях. К числу их принадлежал и Леонид, начавший подвиг иночества на Белых берегах, при старце Василии, и окончивший его в Оптиной пустыне, в 1841-м году, семидесяти двух лет от рождения.
Уволившись от строительской должности на Белых берегах, он, вместе со старцами Клеопой и Феодором, долго подвизался на пустынном Валааме и в Свирской обители; после же кончины Феодора избрал себе пристанищем уединенный скит Оптинский, где многие обретали у него врачевание не только душевное, но и телесное, когда с молитвой помазывал их елеем от древней иконы Богоматери. По своему глубокому знанию Священного Писания и книг отеческих, старец Леонид был преимущественно избран в духовники окрестными жителями и многих обратил к Господу кротким словом, исполненным помазания. Стечение народа в пустынный скит было столь велико, что настоятель, ради его безмолвия, вынужден был перевести старца Леонида в ограду монастырскую. Страдая сам водяной болезнью, он помогал другим, ибо сила Божия в немощи совершается, и посреди тяжких своих недугов смирялся пред Господом, как бы еще не готовый предстать Ему. Не напрасно сравнил один из древних отцов крайнее смирение мужей совершенных с плодовитым древом, которого ветви невольно склоняются к земле, от самого избытка плодов своих.
Я уже отложил намерение оставить пустынь на следующее утро, будучи тронут радушным приемом ее старцев, и воспользовался дозволением отца игумена, чтобы посетить его после краткого отдыха. «Вчера я поручал брату моему принимать гостя, – приветливо сказал он, – потому что сам готовился к служению, а сегодня просил его заступить мое место на всенощном бдении и завтра на литургии, чтобы мне свободнее было заняться вами».
Я благодарил почтенного старца за такое милостивое внимание к пришельцу и, в искренней беседе, полюбопытствовал узнать нечто о его пустынной жизни в лесах рославльских, потому что и прежде слышал о тамошних подвижниках, старцах Варнаве, Адриане, Василиске и Зосиме. Это был какой-то особый мир иночества, который внезапно процвел в исходе минувшего столетия, в дремучих лесах средней полосы нашего отечества: Марк и Серафим в дебрях Саровских, Василиск и его предшественники и преемники, в непроходимых чащах орловских и смоленских, проявляли нечто давно забытое, которое казалось как будто уже миновалось в наши охладевшие времена, и вот опять возгорелась та же искра. Василиск, которого подвиги описаны учеником его Зосимой и изданы в свет старанием Оптиной пустыни, нашел в сих лесах старцев Адриана и Варнаву и долго обитал с ними; когда же Адриан вызван был на строительство в Конев монастырь, сподвижник его Василиск удалился в тундры сибирские, где просветил многих светом христианства. Ученик его Зосима, родом из дворян, разделял с ним труды пустынные и, по смерти старца, перевел с собой общину, которой был руководителем, в пределы московские, где и доселе она процветает близ Вереи. Но и после сих подвижников оставались еще любители безмолвия в лесах смоленских, за сорок верст от Рославля, Афанасий и Досифей, и к ним присоединился отец Моисей с братом своим Антонием, которые положили начало в Сарове, по совету схимника Новоспасского Филарета; около них поселились еще другие труженики, вместе с ними вызванные для устройства скита Оптина преосвященным Калужским. Но старшие братья, Афанасий и Досифей, не решились оставить дремучих лесов своих и только в самых преклонных летах, чувствуя нужду в помощи человеческой, схимник Афанасий, достойный ученик великого Паисия, переселился в обитель Свенскую, около Брянска; там скончался, в 1844 году, на руках доброго настоятеля Смарагда.
Вот что мне рассказано было старцем, о пустынной жизни: «Мы жили отдельно в кельях, которые сами себе срубили и построили, с помощью благочестивых поселян, приносивших нам пищу, хотя ближе десяти верст не было ни одного селения. Трудно бывало отыскать к нам дорогу и мы сами нередко сбивались, доколе не привыкли, в чаще леса, распознавать следы нашей уединенной тропинки. Моя изба, где я жил с другим старцем, была совершенно закрыта ветвями опрокинутого бурей дерева; келья от кельи находилась на расстоянии полуверсты и по праздникам мы посещали друг друга, а около своего жилья разводили малые огороды и это служило для нас развлечением в часы, свободные от молитвы».
«Но как избегали вы диких зверей, волков и медведей, которыми так изобилуют леса брянские, и еще более опасных разбойников?»
«Волки постоянно выли около нас, в продолжение целой зимы, но мы уже привыкли к их вою, как бы к вою ветра, а медведи иногда обижали нас, расхищая наши огороды; мы их видали весьма близко и часто слышали, как они ломали в лесу деревья, но никогда они нас не трогали, и мы жили с ними в мире. И от разбойников помиловал нас Бог, хотя и часто слыхали, что они бродят у нас в околотке, но нас нелегко было найти, да и нечем было бы им поживиться. Однажды лишь, помню, случилось нам великое искушение: вечером поздно я сидел и переписывал святцы, так как это было мое обычное занятие, и только что окончил молитву к Матери Божией: «Все упование мое на тя возлагаю», как кто-то постучал в нашу дверь. Не снимая крючка, я стал спрашивать: «Кто стучит?» Но старец, со мной живший, неосторожно отпер двери и выглянул из избы: внезапно получил он тяжкий удар в голову и нас бы, конечно, убили, если бы по счастью не случился в избе молодой здоровый крестьянин, который принес нам пищу из селения и остался за ночным временем. Проснувшись на шум, он схватил топор и еще со сна закричал: «Много ли тут? Всех перебью!» Разбойники, подумавши, что нас много в келье, разбежались, оставив старца еле живого, и долго болел он от их побоев; Матерь Божия, видимо, спасла нас. Кроме же сего случая, других в продолжение десяти лет, благодаря Богу, не было. Но страшнее разбойников бывали для нас порывистые бури, ломавшие около нас вековые деревья и грозившие задавить нас. Однажды обрушилось огромное дерево подле самой моей келии, с таким треском, что я уже думал, что настала последняя минута; но и тут помиловал Господь: оно лишь ветвями задело крышу; а только страшен этот рев бури в вековой дубраве, когда она ходит по лесу и как трости ломает то, что нам казалось неподвижным».
«Но каким образом могли вы присутствовать при богослужении, во дни великих праздников, – спросил я, – и особенно для приобщения Святых Тайн?»
«Хотя селение было от нас не очень далеко, но в продолжение десятилетнего жительства в лесу, не оставлял я моей пустынной келии и не бывал в сельской церкви. Всю церковную службу мы правили у себя, утреню, часы, вечерню и келейное правило, а иногда и собирались вместе в одной из келий; на Пасху же и на Рождество и в другие нарочитые праздники, приходил к нам, из ближайшего села, священник и приобщал запасными дарами, дабы и мы не лишены были сего духовного утешения».
Мне казалось, когда я внимал сему рассказу, что кто-либо из древних пустынножителей Египта или Палестины, восстав, раскрывает предо мной покров давноминувшего. И сии новые подвижники могли столь же простодушно, как и древние образцы их, спрашивать у пришельцев: что творится во вселенной? Ибо они уже были как бы вне ее, и мир кончался для них у порога их лесной кельи, или ради большего простора, у опушки дремучего леса, в сердце коего гнездились они, неведомые свету, ведомые единому Богу. Слух носится, что еще один почти столетний отшельник остался доселе на месте прежнего жительства, довершая за них долгую чреду своей духовной стражи. Леса уже редеют около него, но и такие люди становятся также редки. Благодарение Богу, что хотя иногда встречаешь их в пустынных обителях, где еще светят они, как бы на свечнике.
Много был я утешен беседой отца игумена; с такой духовной простотой и смирением рассказывал он о самых трудных и необычайных для нашего века подвигах, что они в устах его казались весьма легкими: такими действительно они бывают для тех, которые идут, с твердой верой в Бога и недоверчивостью к себе, по следам великих отшельников, оставивших примеры самоотвержения, изумительные для нашего малодушия.
Чтобы хотя несколько понять этот, странным кажущийся для нас, отдельный мир совершенства иноческого, надобно выйти из обыкновенных пределов и ежедневных привычек нашей суетной жизни, и тогда быть может мы услышим ему тайный отголосок, во внутренней клети нашего сердца: сперва слабый, как бы отдаленный зов сквозь бурю взволнованных чувств, он будто приближается к приближающемуся, как голос дружеский, уже нам более знакомый, хотя еще не можем ясно различить его, доколе в совершенной тишине не свыкнется с ним наше сердце, успокоившись от молвы житейской. Тогда лишь отразится, в чистом его зеркале, много непонятных нам дотоле образов, и то, что казалось нам издали привидением, облечется пред нами в благолепный вид; душа ознакомится с неведомыми ей дотоле сладкими чувствами, и утихнет в ней буря помыслов, исторгавшая из глубины ее основные истины, как те вековые дубы, под сенью коих с детства привыкли отдыхать наши предки.
Наступало время всенощного бдения, которое мне хотелось слышать в скиту, и настоятель благосклонно предложил проводить меня туда. Мы продолжали беседу нашу о пустынножителях в чаще леса, хотя и в малом виде ему напоминавшей о прежнем житие в дебри Смоленской. Взойдя в келью отца Макария, он будто передал меня из рук в руки начальнику скитскому, а сам возвратился на всенощную в свою обитель. Позвонили в маленький колокол уединенной церкви Предтечи, собралась братия и несколько народа, но без тесноты; сквозь открытые окна веяло ароматами цветов и, что довольно странно, осенью слышно было пенье птиц, которое присоединилось к хвалебному гласу иноков. Отрадно было это созвучие, уносившее мысли и сердце в глубочайшую пустыню; всякое дыхание на языке своем хвалило Господа и все соединялось в один общий гимн: не так ли было некогда и в Эдеме?
Мы вышли из храма в темную ночь, глубокая тишина царствовала окрест; старец Макарий отпустил со мной знакомого мне послушника вместе со своим келейником, чтобы проводить меня по лесу, при свете фонаря в гостиницу, кругом ограды, так как монастырские ворота уже были заперты. Было нечто таинственное в этом ночном шествии около стен обители, внутри и вне коих не слышалось иного звука или голоса человеческого, кроме нашего. Молодой послушник говорил мне, что он совершенно привык к своему новому состоянию и полюбил его искренне, а я пожелал ему помощи свыше, для довершений начатого им благого подвига. Утешительно видеть, в юные еще годы, вольное отречение от прелестей мира, которые на каждом шагу запинают нетвердые стопы наши на поприще спасения.
Тихо протекла и вторая ночь под сенью мирной обители. Я встал к ранней обедне, после которой собирался в дальнейший путь, но едва вышел из обители, как уже встретил идущего за мной настоятеля: много снисходительности к пришельцу было во всем братстве. Пришел и отец Макарий со своим послушником, отслушать раннюю литургию в теплом соборе Казанской Божией Матери, чтобы потом меня проводить. Стройно совершалась божественная служба, с порядками пустынными. Мы все зашли после обедни к настоятелю, где уже ожидал нас брат его, добрый игумен Антоний, хотя и готовился служить позднюю литургию. Грустно мне было оставлять эту радушную семью иноческую, где все дышало истинно христианской любовью, при высоких добродетелях, которые обличали нас, рассеянных выходцев так называемого большого света.
Старцы наделили меня всеми назидательными книгами, которые издала в течение немногих лет Оптина пустынь, для назидания иночества: немалая заслуга пред отечественной Церковью. И я со своей стороны обещал им описание некоторых из моих странствий, чтобы не забывали о путнике, и убедительно просил отца Макария довершить благое начало, составлением русского новейшего Патерика, по примеру греческих, Лимонария и Нового рая, в которых собраны подвиги отцов пустынных, просиявших в последнее время. Скитской братии предстоит собрать жития всех учеников и последователей великого старца Паисия, доколе еще свежа о них память в обновленных ими обителях, и составить из сего одно последовательное сказание, с постепенностью исторической, положив в начале житие общего их отца. Труд сей еще возможен и тем облегчен, что некоторые жития уже напечатаны; полное их собрание было бы великим сокровищем для иночества, за которое отечественная Церковь была бы столь же благодарна Оптиной пустыне, сколько утешается теперь ее назидательным примером.
Настала минута прощания: все три старца пожелали проводить меня за реку, до крайней грани своих владений; она недалеко: малый ручей, журчащий под мельницей, ее обозначает. Когда отцы Моисей, Антоний и Макарий переплывали со мной на пароме чрез скромную Жиздру, все три напоминавшие, не одними лишь именами, но и образом их жизни, пустынных отцов древнего Египта, мне, недостойному посетителю стольких священных мест страждущего Востока, мне казалось, что я перевожусь вместе с ними чрез бледные воды пустыннолюбивого Нила, на берегах которого столь обильно некогда процветало иночество. И если не вековые пирамиды фараонов, а белая златоверхая обитель, и не роскошные опахала восточных пальм, но мрачные, прямые сосны нашей родины, обставили здесь пустынную картину: это было только одно внешнее для безотчетно скользящих взоров; внутри же утешенного сердца я созерцал и уносил с собой высокие образы древнего отшельнического мира, о котором еще доныне поет в своих гимнах благодарная Церковь:
«Радуйся Египет верный, радуйся Ливия преподобная, радуйся Фиваида избранная, радуйтесь всякое место, град и страна, воспитавшие граждан Небесного Царствия, возрастившие их в воздержании и болезнях и показавшие их Богу совершенными мужами желаний! Мысленно обтекая их гражданства, как бы
другой рай сладости, воскликнем: сии суть древеса, которые насадил Господь Бог наш; они цвели и принесли Христу плоды нетленной жизни, питая души наши».
1851 г.
Подвиги Соловецкой обители
Вступление
Есть старая книга, которая под заглавием «Соловецкой осады» уже около двух столетий бродит по рукам, величающих себя громким именем староверов и старообрядцев. Она содержит, однако, описание непохвальных деяний мнимых подвижников соловецких, большей частью из мирян, которые, под предлогом веры, несколько лет сидели за крепкими стенами, противоборствуя воеводам царским и кроткому увещанию пастырей; таким образом, вопреки истинному русскому духу, воевали они против Церкви, Царя и Отечества. Здесь предлагаю описание другой осады, также соловецкой, уже совершенно в ином духе выдержанной, против жестокого нападения иноземных и иноверных врагов, при видимом благословении Божием, посреди человеческой немощи. Чудное сие событие послужило даже, в стенах самой обители, к обращению одного иноверца и одного раскольника, потому что пред очами каждого слишком ясно было свидетельство небесной помощи Православию.
То, что слышали верные свидетели и видели сами очевидцы, что, можно сказать, осязали собственными руками славные деятели сего великого дела, которое возобновило в памяти современников давно минувшие подвиги осады Сергиевой лавры: это самое предлагаю, во услышание и утешение всей земли русской. Со слезами благодарного умиления, да воздохнет она к Богу отцов своих и да прославит неистощимое милосердие Господа, который, посреди временных бедствий, являет вечное Свое покровительство, право исповедующим чистую веру предков: ибо «с нами Бог, разумейте язы́цы и покоряйтеся, яко с нами Бог!»
Некогда, по сказанию современника, после смутной эпохи самозванцев и нашествия польского, когда лавра Сергиева отстояла Русь, пришло на мысль благоговейному патриарху Иерусалимскому Феофану посетить сию лавру, чтобы в ней поклониться великому чудотворцу Сергию и благословить иноков, подвизавшихся за землю русскую. Еще жив был тогда святой архимандрит Дионисий, одушевивший князя Пожарского на спасение отчизны, и с ним был великий его сподвижник, келарь Аврамий; бодрствовали еще и те дивные старцы, которые в броне воинской ратовали на стенах в дни брани, и опять, в дни мира, возвратились на свои духовные подвиги. Их пожелал видеть святитель Иерусалимский, чтобы испытать их смиренномудрие: и вот предстали пред ним иноки, по словам летописи, дельцы того дела, более двадцати числом, и во главе их бывший вождем их старец Афанасий Ощерин, уже пожелтевший сединами.
«О старче старый, – вопросил его святитель, – на войну ты ли исходил и начальствовал воинством мученическим?»
«Ей, Владыко святый, – смиренно отвечал ему инок, – вынужден был к тому слезами кровными!» и на другой знаменательный вопрос патриарший: «Что ему свойственнее? Иночество ли в уединенной молитве, или подвиг пред всеми людьми?» старец, обнажив седую свою голову, сказал сие глубокое слово: «Владыко святый, что творил и творю, все только ради послушания: вот подпись латинян на челе моем, иззубренная их оружием; еще же и в лядвеях моих шесть памятей свинцовых (т. е. пуль); а в келии, сидя на молитве, как можно было, из доброй воли, найти таких будильников для воздыхания и стенания!»
То же могли бы сказать, о подвигах своего послушания, и нынешние защитники обители Соловецкой, хотя и сохранились, без подписей стальных на челе своем и без памятей свинцовых, не от того, что от них укрывались: нет, они были готовы каждую минуту жертвовать собой, но потому, что Господь иначе о том судил! Господь хотел видимо показать врагам нашим и Православие, что сила его в немощи совершается, и это действительно явилось, когда, по таинственным судьбам неисповедимого Его промысла, благоугодно Ему было спасти избранных Своих, без всякого оружия. Сбылось над ними слово псаломное, сказанное о том, кто живет в помощи Вышнего и в крове Бога Небесного водворился: «Что падет от страны его тысяща и тьма одесную его, к нему же не приближится, и узрит он воздаяние грешников, ибо на Вышняго возложил упование свое» (Пс. 90). И что говорить о людях? Когда даже ни одна из птиц, стаями гнездящихся по двору монастырскому, не погибла во все продолжение трехдневной осады, несмотря на тысячи бомб, которые могли бы быть смертоносными для всех, если бы не отклоняла их милость Божия от своего невинного творения. Так исполнились слова евангельские: «Не две ли птицы ценятся единым ассарием? и ни едина от них падет на землю, без Отца вашего; вам же и власи главнии вси сочтены суть; не убойтеся убо, мнозих птиц лучше есте вы» (Мф 10, 29–31).
Выступи из своих туманов, чудная обитель на морском оттоке, – сияние северное всей полунощной страны, куда стекаются молитвы, не с одного лишь Белого Поморья, но и со всех отдаленнейших пределов необъятной земли Русской! Раскрой нам: каких пустынных отцов пустынные чада теперь тебя населяют? Кто были, бежавшие мира и неведомые в свое время, но прославленные в веках грядущих, основатели твоих уединенных храмов и скитов, как бы забытых на море-океане? Чрез какие тяжкие испытания бунтующей около них стихии и враждующих соседей иноземных, прошли доблестные сыны твои в течение четырех столетий? И когда, таким образом, в одном быстром обзоре, проблеснут нам, из мрака минувшего, их пустынные труды, яснее и ближе сердцу представится нынешний их незабвенный подвиг, который осиял славой не одну их обитель, но вместе с ней и все наше отечество?
Исторический обзор обители
Около половины XV века, в дни великого князя Василия Темного, благочестивый инок Савватий, постриженик белозерский, подвижник валаамский, идет искать безмолвия на пустынном Поморье, на устье реки Выг; там обретает себе сотрудника Германа и с ним, на утлой ладье, переплывает пучину Белого моря, на острова Соловецкие. Но Герман на время его оставляет, в диком уединении, и первый отшельник, откровением Божественным, предуведомленный о близкой своей кончине, опять вверяется бурным волнам, чтобы на устье той же реки, обрести себе напутствие в вечную жизнь, от странствующего игумена Нафанаила. Другой любитель безмолвия должен заселить пустыню, избранную Савватием: Зосима, новгородец, инок обители Палеостровской, в пределах онежских. Он обретает того же Германа, уже на устье реки Сумы, ближе к островам, а с ними плывет на тот же морской отток, где утешает его небесное видение о будущей славе его киновии; там водружает он первый крест, под сенью коего разрастается впоследствии обитель Соловецкая.
Слава о его добродетели привлекает к нему многих учеников, но смирение его не позволяет над ними начальствовать. Желая соорудить церковь, во имя Преображения Господня, посылает он в великий Новгород, просить на то благословения у святого архиепископа Ионы и, по совершении убогого деревянного храма, два игумена, один за другим, сменяются в новой обители, доколе наконец общий голос учеников не победит смирения Зосимы. Старец идет сам в Новгород к святителю, принять от руки его священство и посох настоятельский. Тогда переносит он, с устья пустынного Выга, нетленное тело первого отшельника соловецкого Савватия, на свой остров, который уже уступлен ему приговором Владыки, Посадников и Веча Новгородского, чтобы на прочном основании утвердить возникшую обитель. Когда же береговые власти и люди боярские начали притеснять братию, старец, несмотря на преклонный возраст, подвигся опять в дальнее странствие, в великий Новгород. Там обошел он дома всех именитых бояр, прося себе защиты, и был отринут только от порога одной гордой посадницы Марфы Борецкой, но и она, раскаявшись, укрепила за обителью свою поморскую волость; доселе грамота ее хранится в ризнице Соловецкой:
«Се дает Марфа Исаковская, великого Новгорода Посадница, в дом Святому Спасу на Соловки Игумену Зосиме и всем священницем и старцем, вотчину свою по морскому берегу, рыбныя ловища, землю и воды, и пожни и лешей лес; куда я владела Марфа, туда владеть Игумену и старцам во веки, а кто мою вотчину у них отъимет, или станет вступатися, и мне с ним судитися перед Христом. А у данные сидел отец мой духовной, софийской поп Иосиф, да Олексей Бархатов, а данную писал сын мой Федор Исаков. Лета 6978 (1470 года)».
Прозорливый Зосима, сидя за роскошной трапезой Марфы, имел видение и впал в ужас, ибо ему представились шесть из пировавших бояр обезглавленными; он поведал тайну сию ученику своему и действительно вскоре все они пали под мечом Иоанна, покорившего Новгород, и запустили самый двор Марфы Борецкой, отринувшей сперва старца. Со славой возвратился он в свою обитель и, после сорокалетних подвигов, сперва безмолвия, а потом настоятельства, переселился в вечные обители. Умирающий оставил по себе утешительное обещание ученикам своим: «Что хотя и отходит от них телесно, но духом неотступно с ними будет и посему уразумеют, что обрел я благодать у Бога, если не оскудеет их обитель, ни духовно, ни в нуждах житейских». Исполнилось его вещее слово: твердой стопой стала обитель Соловецкая на своем морском оттоке и, как скала, отражает неоднократные напоры бунтующих волн и вражеских полчищ.
Арсений, присный ученик старца, заступил место преподобного Зосимы, в 1478 году; в краткие дни его настоятельства скончался в Великом Новгороде, в обители Антония Римлянина, первый сподвижник обоих великих отшельников соловецких Герман, завещавший перенести кости свои к гробу своих присных, на пустынный остров.
Год спустя, при игумене Феодосии, великий собиратель Руси Иоанн III, уже вступается в Двинскую область новгородцев, и укрепляет властью своей все, что было даровано ими обители, жалуя Спасу и Его Пречистой Матери и святому Николе на Соловках все острова: Соловецкий и Анзерский, Муксальму, Заячий и прочие малые, запрещая под страхом княжеского своего гнева боярам новгородским и детям карельским вступаться во владение иноческое.
Досифей, последующий игумен, удалившись на покой в Белозерскую обитель преподобного Ферапонта, умолил жившего там в заточении митрополита Всероссийского Спиридона написать в тиши келейной жития блаженных своих учителей Савватия и Зосимы, со слов очевидцев. Тот, которому уступил он свое настоятельство, игумен Исаия, исполнил в это время волю преподобного Германа и перенес его останки к гробу его пустынных сотрудников, подобно тому, как и Зосима перенес тело первоначальника Савватия на место его пустынного подвига: это уже был третий драгоценный камень, который полагался в основание твердыни Соловецкой.
Исаия и Досифей, последние из учеников преподобного Зосимы, бывшие свидетелями жития его, заступали его место; последующие игумены, мало известные, уже после него пришли в обитель. Из них однако Вассиан, движимый усердием к памяти Преподобных, описал чудеса их, прежде бывшие и ему современные, ибо непрестанно истекали исцеления от их гробниц. При Алексие, двадцатом настоятеле после святых основателей, погорела от молнии вся обитель; это бедствие обратило на нее внимание митрополита Всероссийского Макария и самого царя Иоанна. Он утешил погоревшую братию богатыми вкладами и даяниями обширных волостей вокруг поморья.
Протекло не более полувека, по преставлении блаженного Зосимы, как уже в созданной им обители, на пустынном острове, востекает новое светило, долженствовавшее озарить всю землю Русскую и светить ей не только из пустыни, но и с престола святительского. В дальнюю обитель является, в образе странническом, боярин Феодор Колычев, многие годы скитавшийся по пустыням Олонецким; он приемлет на себя ангельский образ, внешнее выражение внутренней его чистоты, и постригается от руки игумена Алексия, не ведущего, какое сокровище приносит он в дар своей Церкви. Через 10 лет, инок Филипп, ради высокой своей добродетели, заступает уже место игумена Алексия, по благословению архиепископа Новгородского Феодосия: это будущий святитель Московский и всея Руси, исповедник и мученик, одно из самых светлых лиц церковной истории нашей!
Святой Филипп обратил все свое внимание на благоустройство вверенной ему обители и обновил в ней память преподобных ее основателей. Он обрел чудотворный образ Одигитрии, принесенный еще святым Савватием на пустынный остров, и поставил святыню сию над его гробом, а его каменный келейный крест водрузил в часовне, где покоился преподобный Герман, его сподвижник. Своеручно поправил Филипп ветхости келейной псалтыри преподобного Зосимы, и любил облекаться для священнослужения в его убогие ризы, чтобы более исполниться его духом, и кто достойнее святого Филиппа мог приносить в них бескровную жертву, пред Божиим престолом? Молва о высокой добродетели настоятеля Соловецкого, бывшего боярина, быстро распространилась по всей России; отовсюду потекла обильная милостыня, и царская и народная, в прославленную им обитель. Царь Иоанн почти ежегодно жаловал ей или волость, или богатый вклад, и когда уничтожались жалованные грамоты у других, он даровал новые любимой им обители, ибо еще с детства знал ее великого пастыря; само сие знакомство послужило грядущему возвеличению и мученической кончине святого Филиппа, которому готовился венец нетления на небесах.
Все, что только есть лучшего в обители Соловецкой, все ее главные храмы – дело рук сего великого мужа Церкви, и оно сохранилось до наших времен. Сперва соорудил Филипп трапезную церковь Успения Богоматери, с приделом Усекновения Предтечи, во главе ее, в честь Ангела Царского, как бы в предзнаменование, что и сам он должен был, подобно Предтече, пострадать за слово истины грозному царю. Потом, устроив все монастырские службы, предпринял он, на деньги царские, строение соборного храма Преображения Господня, с приделами Архангела и Преподобных, по сторонам его; четыре престола стали во главах соборных, во имя Ангелов детей царских, Лествичника и Стратилата, и еще Собора двенадцати и семидесяти Апостолов: так был он проникнут духом апостольским, прежде еще нежели восприял на себя высокое их звание на кафедре святительской. Но когда все уже было готово к освящению сооруженного им храма, сам он лишился сего духовного утешения, и без него перенесены мощи святых основателей, Савватия и Зосимы, во вновь устроенную для них церковь; виновник духовного торжества сего, игумен Филипп, вызван был царем, чтобы занять престол митрополии, и только его собственные мощи могли, чрез многие годы, возвратиться на краткое время в прославленную им обитель, к мощам Преподобных.
Святость Филиппа как бы отражалась и на его присных учениках, и само нетление, которое его ожидало за подвиг мученичества, даровано было некоторым из них, за бедственную кончину, постигшую их на трудном подвиге послушания. В дни настоятельства Филиппова разбило на устье Двины несколько ладей соловецких, плывших с известью для построения храма; потонули четверо из благоговейных иноков, и впоследствии обретены были их телеса, до которых не прикоснулось тление и на дне пучины. Иона и Вассиан прославились в Пертоминской пустыне, что на Унских Рогах, а два других еще не постриженных послушника, Иоанн и Лонгин, положены были на поморье, в церкви села Яренского; они доселе ожидают перенесения в родную свою обитель, которой служили при жизни и которую прославили по смерти, исцелениями, доселе истекающими от их гробниц. Буря, их потопившая на море, случилась в 1661 году, а семь лет спустя должна была восстать иная, более страшная буря нравственная, на их великого пастыря, и потопить его в своих волнах.
Странная судьба святителя Филиппа и грозного царя! Любит и чтит его Иоанн, на пустынном его острове, потому что в отрочестве играл с ним в числе сверстников своих, детей боярских, и потом не раз видал его у себя в столице, уже как настоятеля обители Соловецкой. Он вызывает его на кафедру святительскую, потому что нужен достойный преемник Макарию и хочет он видеть праведного мужа во главе иерархии Российской. Уже царь избирал духовника своего Афанасия и, по скорой его кончине, святителя Казанского Германа, но испугался его обличений. Что же влечет Грозного обращаться к людям особенной святости, когда бы он мог легко найти вокруг себя человекоугодников беспрекословных? Иоанн не в мире сам с собой; он чувствует свою душевную немощь, которая временно обуревает лучшую его природу, а между тем в нем еще глубоко укоренено уважение к сану священному; посему ищет он праведника на кафедру святительскую, чтобы тот, самим безмолвием своим, как бы оправдал его мрачные деяния, будучи сам не укорителен по святой жизни. Тайное угрызение совести заставляет Иоанна действовать против самого себя, чтобы обрести для себя молитвенника против ее упреков; но когда встречает он явное себе пререкание, то худшее преодолевает лучшее в смятенной душе его; благое намерение постепенно уступало раздающейся страсти, доколе наконец не вспыхнуло раздуваемое со стороны пламя, и не обрушилась вся сия страшная буря на главу невинной жертвы, как на мету всех пререканий.
Таким представляется разрешение странных отношений Иоанна к святителю Филиппу, начиная от глубокого уважения, которое подвигло царя, вопреки желанию смиренного игумена, возвести его на митрополию и до поругания святителя в святыне храма. Даже и это страшное деяние искал он оправдать пред судом своей совести, судом соборным, домогаясь обличить низложенного им Филиппа, пред лицом братии его архиереев; наконец, уже в последнем порыве ярости, довершил он свою жертву в Отроче монастыре, рукой Малюты Скуратова, быть может, не ведая и сам о совершении сего злодеяния. Сия мученическая повесть страданий Филипповых принадлежит более летописи церковной, нежели соловецкой, но и в ней однако она отразилась. Мирная обитель, отпустившая со слезами своего игумена на престол иерархов Московских, привела только спустя многие годы нетленные останки бывшего своего пастыря, чтобы опять со славой отпустить его в собор Успенский, уже не на временное святительство, но для вечного утверждения Церкви Российской, на сем четвертом краеугольном ее камне, вместе со святителями: Петром, Алексием и Ионой.
Великим постом 1566 года вызван был на святительство игумен Филипп, из любимой своей обители, а на праздник Преображения того же года, ученик его Паисий, поставленный на его место, освящал церковь Спасову, им сооруженную, и два дня спустя торжественно перенес, в северный ее придел, мощи преподобных основателей соловецких. Но чрез два года, тот же ученик, подобно Иуде, сделался клеветником на своего учителя, ибо святителю Филиппу, носившему на себе образ Христов, в пасении его стада и в злостраданиях, надлежало и в этом уподобиться Христу, чтобы быть преданным одним из своих учеников! Когда, для неправедного обличения деяний Филипповых, присланы были малодушные следователи в его обитель: Пафнутий архиепископ Суздальский и Андрониева монастыря архимандрит Феодосий, с боярином князем Темкиным, дьяком приказным и детьми боярскими, смутили они, страхом и лестными обещаниями, душу робкого Паисия и некоторых других недостойных старцев соловецких. Клеветники взяты были в Москву, для ложных показаний, а вся благолепная ризница и сами деньги, собранные усердием святого Филиппа, опечатаны; но после неправедного осуждения святителя и мученической его кончины, гнев царский обратился на самих лжесвидетелей; без сомнения тайные укоры его совести свидетельствовали громче их клеветы, в пользу гонимого им праведника. Десять человек, из числа сих иноков, разосланы были по разным монастырям, а сам предатель, игумен Паисий, заточен на пустынном Валааме, где он и скончался. До смерти святого Филиппа и даже после его кончины, не допущен был никто из старцев соловецких к настоятельству в его обители; ей управляли два инока белозерских из Кириллова монастыря.
Достойно внимания, что в самый год мученической кончины святителя Филиппа впервые начала угрожать опасность бывшей его обители от врагов внешних; в 1570 году появились на Белом море корабли немецкие, т. е. шведов, грозившие нападением на монастырь, но опасность на сей раз миновалась, без всяких последствий. Однако прислан был в том же году воевода царский Семен Лупандин, чтобы учинить поиск над чуждыми кораблями по Студеному морю, а строителю Варлааму с братией присланы от царя четыре медные пищали, с четырьмястами разного рода оружий и сотней пудов пороха; таким образом впервые обитель мира сделалась твердыней ратных. До ста человек стрельцов под начальством воеводы Озерова назначены для ее защиты и она обнесена наскоро деревянным острогом; а четыре года спустя царь еще прислал четыре пищали и пороху, потому что каянские немцы напали на Кемскую волость и разоряли окрестности, убив там воеводу и многих стрельцов. Воевода Загряжский набрал стрельцов из монастырских вотчин и стал на защиту обители, а на следующий год до трех тысяч шведов, напавших на кемский острог, были отбиты после трехдневного кровопролитного боя другим воеводой Аничковым, и два немецких вождя пали в сей битве.
В это время, столь смутное для обители Соловецкой, начали строить близ ее соборного храма, помощью Владыки Новгородского Леонида, каменную церковь святителя Николая, великого поборника Православия: ибо наступала уже эпоха ратных подвигов для тихого пристанища преподобных Савватия, Зосимы, Германа и Филиппа. Наконец умилостивился царь Иоанн к его обители и, по смиренной просьбе братии, даровал им настоятеля по их сердцу, из числа учеников Филипповых, добродетельного Иакова, который сперва вызван был управлять обителью Палеостровской и потом уже возведен на место игумена родного монастыря. При нем потекла опять царская милость Иоанна, но уже ознаменованная печальными воспоминаниями за кровь Филиппову, как бы за кровь Авелеву, вопиявшую от земли на небо. В 1582 году, прислал Государь 500 рублей на поминки по душе сына, царевича Иоанна, от его руки скончавшегося, и по опальных соловецких, т. е. пострадавших по делу святителя Филиппа, 100 рублей, и еще драгоценный кубок, золотой крест, медные часы и серебряную утварь. Потом, два года спустя, опять по душе царевича, которого смерть горько тревожила его душу, еще 200 рублей, с собольим мехом его и ожерельем, и по душе двоюродного брата своего князя Владимира Андреевича, который вынужден был со всем семейством испить пред лицом его отраву, и по матери его княгине инокине Евфросинье, утопленной в Горицах, 200 рублей, и столько же по убиенном князе Петре Щенятине, и еще 1.100 рублей по опальных новгородцах, 753-х душах, которых, как сказано было в поминальной записи, «отделал Малюта Скуратов». Видно было, что уже утихла страшная буря душевной болезни, одержавшей Иоанна в течение многих лет, и пред исходом жизни, он возвращался опять к лучшим своим началам, с ужасом озираясь на пройденное им жестокое поприще.
Наступило кроткое царствование сына его Феодора, ознаменованное многими благодеяниями Соловецкой обители. Первым его вкладом были 400 рублей, по душе родителя своего царственного инока Ионы. Немедленно приказал он строить каменную крепость кругом монастыря, подверженного частым нападениям от соседних шведов; ограда сия воздвигнута была из дикого булыжника, на монастырскую казну, волостными крестьянами соловецкими, в продолжение десяти лет. Тогда же построен и деревянный острог в Суме, на западном поморье, и вся Сумская и Кемская волости пожалованы были обители, для совершения сих государственных, можно сказать, построек. По царскому повелению, воеводы наши опять ходили на каянских немцев и финнов, которые опустошали окрестные селения на берегу морском; посему в монастырь присланы были люди ратные, знавшие дело оружейное, до шестисот стрельцов, и в продолжение нескольких лет до семи пищалей, восьмисот ядер и пятидесяти пудов пороха.
Первостепенные воеводы царские сменялись один за другим, для охранения обители и наблюдения за строящейся оградой; наконец она была довершена в 1594 году, с крытым ходом кругом всей стены, с крепкими бойницами, восемью высокими башнями и вратами; окружность ее занимала более версты. Замечательно, что такое огромное строение совершено было не только на деньги монастырские, но и под ближайшим надзором постриженика соловецкого, монаха Трифона. Небольшое возвышение, на котором стоит обитель, морской залив с запада, пред Святыми вратами, где есть пристань для малых судов, и Святое озеро, облегающее с восточной стороны ограду, при таких крепких стенах, делали монастырь неприступным для оружия того времени; но для большей его крепости, дабы хранил Господь входы его и исходы, сооружена была над Святыми вратами церковь во имя Благовещения Богородицы. Игумен Иаков, благоговевший к памяти блаженного отца своего Филиппа, помышлял наиболее о том: как бы возвратить в обитель кратчайшую ее твердыню, мощи святителя Филиппа, и он умолил кроткого государя дозволить перевести нетленное тело мученика, из Тверского Отроча монастыря на Соловки. Таким образом, в 1591 году, двадцать лет спустя после страдальческой своей кончины, с торжеством духовным возвратился святой Филипп на свое пострижение, в обитель, откуда вышел святительствовать, и был положен под папертью церкви Преподобных.
Смиренный подражатель иноческого его жития, подобно ему, ревновал о пустыне, и когда начала строиться каменная церковь святителя Николая, в ограде монастырской, перенес старую, деревянную церковь Чудотворца на пустынный остров Анзерский, который отделен морским протоком на пять верст от Соловецкого; так положил начало уединенному Анзерскому скиту, который в свое время процвел подвижниками, при строителе преподобном Елеазаре, и дал у себя мирное убежище великому мужу Церкви патриарху Никону, когда искал он безмолвия иноческого, в начале своего поприща.
После двенадцатилетнего управления, место Иакова заступил другой великий подвижник, также из пострижеников соловецких, Исидор, бывший архимандрит Ипатиевского монастыря, которому суждено было прославиться защитой Новгорода против шведов, уже в сане архиепископа на кафедре софийской. Но хотя не более семи лет продолжалось его настоятельство, многое он сделал для обители и впоследствии не преставал посылать в нее щедрую милостыню из Великого Новгорода. Исидор довершил церковь Благовещения, над Святыми вратами, соединил каменными переходами теплый собор Успенский, с холодным Преображения и церковью святителя Николая, и подле нее соорудил двухъярусную палату, для ризницы и оружейной. При нем и царь Борис Годунов жаловал много вкладов в монастырь, слил колокол в семьсот пудов, который носит его имя, и прислал до 2000 рублей в поминовение по царю Феодоре.
В смутные времена самозванцев, наступивший для России, Соловецкой обители суждено было производить сподвижников для защиты отечества; из нее вышел Аврамий Палицын в келари троицкие, спасший не одну лавру, но и столицу и всю землю русскую, как и бывший игумен Исидор стал крепко против шведа Делагардия, на Кремле Софийском, и пострадал вместе со своей паствой. Место его заступил в обители муж доблестный, Антоний, который отразил все нападения шведов, от поморских ее острогов, в течение семилетнего своего правления, до столь памятного в летописях наших 1612 года. Шведский наместник и воевода Бем послал сказать игумену Антонию: что, по прошению царя Василия Иоанновича Шуйского, отправлено против поляков вспомогательное войско от шведов и, будто бы смущаясь недоброжелательством некоторых бояр к слабому царю, спрашивал игумена: а кого признает он царем и хочет ли себе помощи от королевича шведского? Но доблестный инок отверг все предложения врагов и послал из своей обители в Новгород 2000 рублей, славному воеводе князю Михаилу Скопину-Шуйскому и самому царю более 3000 рублей, в залог своей верности. Два года спустя, уже во время междуцарствия, когда опять был запрос от короля Шведского Карла IX игумену Антонию: «Хочет ли он признать королевича царем Московским?» мужественно отвечал он, что, согласно со всеми государственными чинами и со всей землей русской, не хочет никого признавать из иноверцев царем, кроме как из своих природных православных бояр.
Тогда ополчение шведское появилось на поморье с намереньем разорить монастырь и переехало на острова Кузовы, отстоящие только за тридцать верст от Соловок; обители угрожала крайняя опасность, но ее оградили на сей раз, как и на предбудущие, молитвы ее Чудотворцев. По просьбе игумена, который был не только распорядителем, но, можно сказать, воеводой всего северного поморья, присланы были из Москвы люди ратные, с вождем Лихаревым. Они ходили из Сумского острога против шведов и требовали от них прекращения военных действий, по случаю перемирия; но шведы, со своей стороны, начали требовать у игумена Антония сдачи Сумского острога, будто бы им уступленного по договору с царем Василием. Антоний мужественно отказал им и удержал за собой все поморье. И в последующие годы опасность не преставала угрожать обители, уже не от шведов, но от собственных изменников, литовских людей и черкасских, которые, пользуясь внутренним неустройством России, грабили поморье и окрестные волости; но монастырские дружины отбивали все их нападения на остроги.
При настоятельстве Антония в число братства соловецкого поступил знаменитый, хотя и невольный, инок Симеон Векбулатович, бывший некогда Эдигер царь Казанский, честимый Иоанном Грозным, который дал ему титул великого князя Тверского и всюду брал его с собой в походы; страшный Годунову по своему царственному сану, он наконец пострижен был неволей Лжедмитрием и сослан в заточение на Соловки за то, что обличал его самозванство и увещевал народ чуждаться обычаев латинских. Странное игралище превратности судьбы! Уже ослепший царь инок, Стефан, просил о переводе его из обители Соловецкой в Кириллов и, по приговору князя Димитрия Пожарского, освободителя России и прочих бояр, переведен был на Белоозеро. Сколько назидательных дум может возникать в сердце, если проследить всю его многомятежную жизнь, от престола казанского до келии белозерской! Не утешительно ли видеть в бывшем царе-магометанине ревностного защитника Православия и обличителя латинству, готового жертвовать жизнью за Русь и за Церковь, который, после такого свидетельства истины смиренно умирает в келии иноческой, хотя бы мог опять проситься в мир.
Опять великий муж Церкви и Отечества наследовал Антонию, игумен Иринарх, который впоследствии даже причтен был к лику Преподобных Соловецких, как и сам прославил память преподобного Германа, одного из трех основателей обители, когда при созидании храма обрел его нетленные мощи. Десять лет управлял Иринарх, и с ним заключили, наконец, перемирие воеводы шведские города Каяна, в 1614 году, видя, как безуспешны все их покушения против северного края; а юный царь Михаил, ради великих пожертвований Соловецкой обители, во все продолжение отечественной войны, пожаловал ей всю волость Корельскую, с подворьем в Москве, и украсил среброковаными досками раки Чудотворцев. Иринарх исправил ветхости в ограде, соорудил две новые башни и многие здания монастырских служб, которые сделались уже необходимыми по государственному значению твердыни Соловецкой; он оставил по себе незабвенную память своих добродетелей в обители, которая впоследствии начала прибегать к его заступлению и молитвам.
Иринарх успокоил у себя, под сенью преподобных, и последние годы жизни знаменитого келаря Аврамия Палицына, возвратившегося на свое обещание после славных своих деяний для освобождения отечества; он прожил еще семь лет в Соловецком монастыре. Глаголом уст своих, как мечом духовным, поражал Аврамий изменников, при изгнании врагов из столицы, и достойно внимания, что там же, где успокоился сей духовный, спасительный для России меч, хранятся и два вещественных меча ее освободителей, Скопина-Шуйского и князя Димитрия Пожарского: оба витязя завещали их древней обители, которая в их время служила оплотом всему северу, и оба меча доселе соблюдаются с благоговением, в ризнице монастырской. Аврамий скончался в 1627 году, вслед за Иринархом, при его преемнике Макарии.
Рафаил, из архимандритов астраханских, избран был настоятелем Соловецким и впоследствии поступил на кафедру астраханскую, дважды перейдя таким образом из края в край всю неизмеримую Россию, чтобы стоять на ее духовной страже. Однако, в краткое свое управление обителью, по случаю новой войны с поляками успел он пожертвовать до 14000 рублей из монастырской казны; ибо в те смутные времена великие обители наши были не только твердыней государства, но и казнохранилищем его и житницами. Лавра Сергиева неоднократно питала хлебом своим столицу и, не менее Соловецкой, давала обильное пожертвование денежное, отражая врагов оружием; таким образом то, что в дни благоденствия жертвовали ей благочестивые государи, с благодарностью возвращалось их царству в дни гражданских тревог.
Из пострижеников соловецких в дни Рафаила, воссел опять на первосвятительскую кафедру, пастырь, украшенный добродетелями, Иоасаф I, который, во все время своего патриаршества, не оставлял осыпать щедрыми даяниями колыбель своего иночества, из игуменов соловецких, Маркелл, преемник Рафаила, поступил на кафедру вологодскую, но душа его была неразлучна с обителью; он завещал погребсти тело свое, не с сонмом братий своих пастырей вологодских, а в смиренной часовне соловецкой, близ праведного Германа. Семилетнее настоятельство Маркелла памятно для обители и тем, что в его время пришел туда спасаться великий Никон, будущий патриарх, еще в сане иеромонаха и, как любитель подвижнической жизни, водворился не в самой лавре, но в пустынном скиту анзерском, под руководством преподобного строителя Елеазара. Оттуда странствовал он вместе с ним, в престольный град, где был узнан и оценен благочестивым царем Алексеем Михайловичем. После трехлетнего подвига, решившись оставить скит анзерский, бурей принесен был к пустому острову Кийскому, на коем основал знаменитую Крестную обитель, уже в дни своего патриаршества. Избранный строителем Кожеозерской пустыни, в пределах Олонец ких, вскоре был он вызван будущим царем, на архимандрию родной обители Романовых, Новоспасской, и еще чрез три года возведен на первостепенную кафедру митрополии Новгородской. Казалось, все великое и славное Церкви Российской как будто должно было проходить сквозь горнило Соловецкое.
Никон, в сане архимандрита, начинал уже благодетельствовать обители, памятуя, что в ней восприял иноческий образ. Он внушал царю, что настало время прославлений святителя, мученика Филиппа, потому что непрестанные исцеления истекали от его гроба, и благочестивый Алексий, посоветовав с Собором святительским, повелел открыть гробницу праведника и перенести святые мощи его в храм Спасов, им сооруженный. Игумен Илия, преемник Маркелла, сподобился сего духовного утешения и вскоре опять, по ходатайству Никона, уже митрополита Новгородского, в 1651 году возведен был на степень архимандрита, с некоторыми преимуществами службы церковной, как то: рипидами и осеняльными свечами. Недолго мощи святителя Филиппа оставались в Спасском соборе: сердце ревностного Никона, исполненное уважения к памяти мученика, возбуждало перенести их на самое место его пастырского подвига, как бы по тайному предчувствию, что ему самому предстояло пострадать на той же кафедре. Он убедил к тому царя и патриарха Иосифа и сам подвигся в дальнюю обитель Соловецкую, за сокровищем мощей Филипповых: буря принесла его некогда к острову Кийскому; буря опять разбила отчасти суда его на Белом море, но он достиг желанной пристани и сам прочел пригласительную грамоту царя Алексия вслух Филиппу, как бы живому: кроткий царь, в умилительных речах умолял мученика забыть оскорбление его царственного предка и прийти опять украсить, обилием своей благодати, бывший престол свой. С великим торжеством поднял Никон нетленные его останки; по морю и по суше и по озерам, чрез всю полунощную страну, церковным шествием прошел он в престольный град и, встреченный царем пред вратами столицы, поставил святителя Филиппа на бывшую его кафедру в Успенском соборе. После Филиппа Никон оставался уже сам первенствующим пастырем в Церкви Российской, ибо во время долгого его странствия в обитель Соловецкую скончались престарелый патриарх Иосиф и старший по нем из митрополитов, и праздной оставалась кафедра святительская, ожидая Никона и Филиппа; Никон вступил на нее, убежденный молениями царя и Собора.
Малая только частица мощей святителя Филиппа осталась в упраздненной его раке, в Спасском соборе; достойно внимания, что как при первом удалении Филиппа из обители началось смутное для нее время от нападений внешних, так и после его вторичного отшествия возникли внутренние в ней смятения. Четыре года спустя, после перенесений мощей, была присланы в Соловецкий монастырь служебники, напечатанные патриархом Никоном с древних вернейших списков греческих и славянских; но исправленные книги показались нововведением для некоторых невежественных людей из числа монашествующих; это могло быть отчасти по их личным предубеждениям против Никона, которого знали в анзерском скиту и не любили за чрезвычайную его строгость к беспорядкам церковным; быть может он в чем-либо оказал ее и в сане митрополита Новгородского, так как обитель Соловецкая зависела от сей кафедры. Они возроптали против его полезных для Церкви трудов и, вопреки увещанию архимандрита Илии, без всякого даже рассмотрения присланных книг, оставили их в запечатанных сундуках в оружейной палате. Сей дерзновенный поступок был начатком того несчастного возмущения, которое вспыхнуло через десять лет в обители Соловецкой более между мирянами, нежели иноками, и временно помрачило ее отечественную славу.
Она не преставала однако, от времени до времени, приносить посильные пожертвования для блага государственного. По случаю польского похода архимандрит Илия послал заимообразно Государю 13000 рублей и выстроил каменный острог в Кеми, из опасения шведов, которые действительно напали, но были отбиты с уроном.
Преемник Илии, архимандрит Варфоломей, послал еще 22000 рублей Государю в пособие воинское; когда же впоследствии дошел до столицы слух о непослушании некоторых из иноков соловецких, настоятель был отозван в Москву и на место его посвящен Иосиф, из пострижеников обители. Оба они были посланы на Соловки, вместе с бывшим духовником царским, архимандритом Никанором, чтобы увещевать непокорных к принятию исправленных книг; но долго таившаяся искра, раздуваемая неблагонамеренными ссыльными людьми, внезапно вспыхнула; два архимандрита принуждены были удалиться, отринутые обнаружившими себя раскольниками, а третий, Никанор, стал во главе их вместе с князем Львовым, который был сослан за то, что невежественно искажал книги, когда заведовал печатным двором при патриархе Иосифе. С ними действовали заодно келарь Савватий и стрелецкий голова; когда же впоследствии келарь обратился к правой стороне, мятежники самовольно поставили себе келарем простого монаха Азарию, а казначеем Геронтия, и безрассудно отвергли все милостивые грамоты царские и увещания присылаемых к ним лиц духовных.
Это была горькая страница в летописи соловецкой, но предыдущая и последующая слава совершенно ее изгладили, хотя однако нельзя опустить и сего события, для последовательности исторической. Девять лет продолжалось такое смутное состояние. Стряпчий Волохов, с сотней стрельцов, четыре лета сряду являлся на Заяцкий остров, прилежащий к Соловецкому, надеясь, что смирятся ослушники; но в крепких стенах бывшего дотоле оплота России на севере, засели буйные казаки, остатки рассеявшихся ватаг самозванцев; они заключили старшую братию в темницы и овладели имуществом монастырским; а между тем недовольные из числа монашествующих, избегая их мучительства, переходили понемногу к воинам царским; иные же, пользуясь свободой, рассеивались кругом всего поморья и распространяли свой раскол под мнимым предлогом старообрядства: таким образом возникли различные между собой толки поморян.
Стрелецкий голова Иевлев с тысячью стрельцов был послан на смену малой горсти Волохова, но хотя и перенес он на зиму стан свой на самый остров соловецкий, не мог однако одолеть крепкой твердыни, снабженной всем нужным для долгой осады. Наконец воевода Мещеринов принял начальство над войском и приступил к решительной осаде; он обнес валом стены монастырские и отбивал смелые вылазки, не унывая духом после неудачных приступов и не оставляя осады даже и в зимнее время. В январе 1676 года бежавший из монастыря монах Феофил, раскрыл воеводе бедственное положение своих собратий, томившихся в неволе, о буйстве казаков; он указал на тайный проход под белой башней со стороны кладбища, откуда монастырь мог быть взять без кровопролития. После бурной зимней ночи, когда мятежники беспечно отдыхали на заре, утомленные непогодой, царские стрельцы ворвались в монастырь, чрез тайный проход, и поразили всех, которые дерзнули противиться им с оружием в руках; многие пали в сече, другие казнены за мятеж, или разосланы по дальним острогам. Верные иноки, вышедшие из темниц и те, которые увлечены были по малодушию, получили прощение по милости кроткого царя; опять просияла обитель древним своим благочестием.
Из различных монастырей переведены были иноки в Соловецкий; архимандритом же назначен из Тихвина Макарий; должность екклисиарха три года исполнял при нем благоговейный Игнатий, из рода Римских-Корсаковых, бывший впоследствии митрополитом Тобольским, который сильно обличал раскол своими посланиями; они весьма для нас драгоценны, как свидетельство современное неистовых действий мнимых ревнителей старины. Еще в течение года царская дружина, из 300 человек, под начальством воеводы князя Волковского, оставалась в стенах обители, до совершенного ее умиротворения.
Когда Макарий отпросился в прежний свой монастырь, бывший келарем Иларион заступил его место на пять лет и впоследствии рукоположен в митрополита Псковского, потому что Соловецкая обитель не переставала давать своих иноков на первостепенные кафедры. При его настоятельстве приписана была к обители пустынь Зосимо-Савватиевская, в архангельских пределах, и открыта новая епархия Холмогорская, для охранения поморья северного от раскола: таким образом, Соловецкий монастырь поступил из-под ведения митрополитов новгородских к архиепископам холмогорским; первый из них Афанасий, знаменитый защитник православия на Соборе Московском, посетил обитель, чтобы поклониться мощам преподобных ее основателей.
Новый архимандрит Фирс, из казначеев соловецких, удостоился чести быть посвященным в сан сей патриархом Иоакимом и дважды имел счастье принимать в стенах своих Державного посетителя; великого Петра. В первый раз Государь прибыл на яхте из Архангельска, в 1694 году июня 7-го, вместе с архиепископом Афанасием и немногими боярами, и во время трехдневного пребывания осыпал царскими щедротами обитель. Еще прежде возвращены были ей, по указам обоих царей, Иоанна и Петра, 40000 рублей, заимообразно взятые из нее родителем их, на военные издержки; тогда же пожертвовал Государь более 1000 рублей на монастырь, велел выдать 3000 мер ржи из Архангельска, в подаяние братии, а на память своего посещения поставил крест в часовне, у самой пристани. По случаю сего царского посещения патриарх Адриан прислал со своей стороны богатое Евангелие, в благословение обители, и от обоих государей было пожертвовано до 600 рублей на устроение нового иконостаса в Спасском соборе, и приписаны еще две пустыни к монастырю, Чухломская и Маркучинская.
В начале нового столетия произошло чудное знамение в обители Соловецкой: сентября 6-го 1701 года, на память чуда Архангела Михаила, во время божественной литургии, ударила молния в соборную главу Спасова храма и, к ужасу предстоявших, опалила местами иконостас, сорвала с цепи лампаду и выбила плиты из помоста; в алтаре, у служившего иеромонаха Маркелла, который впоследствии был игуменом, той же молнией разорвало сапог и, что изумительно, не повредило ему ноги; храм весь наполнился дымом, однако божественная служба не прекратилась и вся братия с умилением воспела благодарственный молебен за свое спасение. Вскоре получено было известие, что шведы готовят нападение на Архангельск и саму обитель: но угрожавшая опасность отражена заботой великого Государя: в Поморские остроги посланы им ратные люди и в самом монастыре приняты меры к защите. Неприятель, после неудачного нападения на крепость Новодвинскую, вышел со своими судами из Белого моря, разорив только несколько дворов монастырских на берегу.
На следующий год обитель была опять утешена посещением Государя, с сыном его царевичем, сингклитом и многочисленной свитой. Эскадра из тринадцати судов приплыла в августе месяце к Соловецким островам и, по неблагоприятным ветрам, остановилась на несколько дней у Анзерского. Давно ли дедушка Русского Флота уединенно плавал по озеру Переяславскому? И вот уже целая флотилия военных судов принесла великого создателя нашего флота к священной обители, по морю Белому, как бы для того, чтобы освятились начатки Русского Флота благословением преподобных Зосимы и Савватия. Вечером 10-го августа вышел на берег Государь и встречен был торжественно настоятелем и всей братией в Святых вратах. Прежде нежели взойти в ограду, он обошел ее кругом, чтобы осмотреть сей крепкий оплот Северного моря и потом уже вступал, при звуке колоколов, под Святые врата и в собор, где прикладывался к ракам Преподобных. Тогда же осмотрел великий Петр ризницу и оружейную и обещал на следующее утро присутствовать на божественной литургии и за трапезой братской; вечер провел в кельях архимандрита со всем своим двором и поздно ночью возвратился на суда.
На другой день, в сопровождении царевича, Государь слушал обедню, которая совершалась соборно, с придворными певчими и, обойдя все здания монастырские, вкусил братской трапезы; на третий день сходил опять на берег, чтобы осмотреть монастырские заводы и промыслы по острову. Накануне же праздника Успения Богоматери, пришел к соборной всенощной, вместе с царевичем, стал на клиросе между братией и пел всю службу, а на другом клиросе пели царские певчие, греческим напевом. Великий Петр пожелал видеть грамоты, жалованные от его предков святой обители, особенно грамоту своего родителя, о дозволении архимандриту служить с осеняльными свечами и в митре; сам же, в знак своей милости, дозволил настоятелю совершать архимандричью службу, по образцу Чудового монастыря, и мантию со скрижалями, что впоследствии было утверждено царской грамотой, с благословением Местоблюстителя патриаршего, митрополита Степана. В день праздника архимандрит Фирс служил торжественно, со всеми дарованными ему преимуществами, в присутствии царя и сингклита, и опять благочестивый Государь пел с братией на клиросе. В последующие дни своего пребывания неоднократно сходил он с корабля и, посетив соседний Заяцкий острог, повелел соорудить на нем деревянную церковь, во имя Просветителя России Апостола Андрея Первозванного, под чьим флагом впервые вышел в море его малый флот.
Более сорока человек первостепенных бояр составляли двор царя и царевича, с придворным духовенством, и до 4000 человек ратных всякого оружия сопровождали его на судах, в сие замечательное плавание, которое было едва ли не первым морским походом, предпринятым на своих водах и судах. Вечером, в день праздника, повеял попутный ветер для обратного плавания, и Государь со всей свитой переехал на корабли; с рассветом отплыла царская флотилия к одной из пристаней соловецких, на ближайшем берегу. Усердный архимандрит, взяв с собой келаря и несколько человек братии, на монастырском судне поспешил вслед за державным гостем благодарить за милостивое посещение обители и поднес ему икону Преподобных с обильными запасами пищи. Благосклонно принял великий Петр усердное сие приношение и, наградив настоятеля и братию, велел отпустить им из Архангельска 200 пудов пороха в обитель, на случай опасности. Так совершилось сие замечательное путешествие великого преобразователя России на пустынные острова Белого моря, приобретенные ей иноческими подвигами Савватия и Зосимы.
Государь, отпустив корабли свои в Архангельск, сам отправился сухим путем, по мхам и болотам Олонецким, пролагая себе стезю в местах, дотоле непроходимых; он тянул вслед за собой по брусьям две яхты, на расстоянье 160 верст, до Повенецкой пристани Онежского озера, и оттоле, рекой Свирью, приплыл в озеро Ладожское. В ту же осень взял он приступом крепость Шлиссельбуржскую, на истоках Невы: так неутомимо действовал Великий! В 1714 году вызван был уже в новую его столицу архимандрит Фирс для договора о поставки в казну соли, вывариваемой в монастырских варницах, и три года спустя там скончался, после тридцатилетнего славного управления обителью, которую привел в цветущее состояние. Тело его, по ходатайству вдовствующей царицы Параскевы Феодоровны, перенесено было в Соловецкий монастырь и погребено близи паперти соборной.
Варсонофий, из пострижеников обители, который был уже в числе братства новой лавры Невской, посвящен на его место в архимандрита местоблюстителем патриаршим Стефаном, и Государь, памятуя заслуги его предместника, утвердил за ним все привилегии, данные Фирсу. Варсонофий был почтен даже впоследствии званием члена Святейшего Синода и, после двадцатилетнего настоятельства, рукоположен в архиепископа Архангельского, где еще двадцать лет благоговейно восседал на кафедре. Императрица Анна, оценившая его заслуги, пожаловала при нем до 1000 рублей вклада в обитель, вместе с богатой утварью, и сам он много для нее жертвовал в сане святительском. Геннадий, из дворян малороссийских, заступил его место и, по мере сил своих, украсил все храмы соловецкие; он воздвиг и две новые часовни над гробами Германа и Иринарха.
После двадцатилетнего управления обителью, Геннадий был уволен указом Святейшего Синода, и архимандрит Галицкого Авраамиева монастыря, Досифей, заступил его место на 15 лет. При нем произошли окончательные перемены в иерархическом и внутреннем быту обители Соловецкой. В 1764 году, причислены были все волости монастырские, более 5000 душ, ко вновь учрежденной Коллегии экономий, и при этом случае, обитель сия столько раз жертвовавшая отечеству денежными вкладами, в смутные его эпохи, внесла еще 35 т. рублей последнего своего пожертвования. Между тем в ведомстве монастыря оставлены ратные люди, равно как и в обеих острогах, Сумском и Кемском, и сама обитель признана Ставропигиальной, независимой от архиепископов архангельских, с подтверждением от Святейшего Синода, настоятелем ее, всех преимуществ архимандритского служения. Такие изменения во внутреннем быту и в самых доходах не помешали однако ревностному архимандриту многое сделать для своей обители: он воздвиг новую высокую колокольню, слил колокола в 300, 500 и 1000 пудов, и устроил великолепный ковчег на престол Преображенского собора и среброкованые образа Преподобных над их раками; даже несколько мореходных судов соорудил для свободного плаванья между островов; при нем и Анзерский скит был окончательно приписан к Соловецкой обители. К счастью, во время столь существенных для нее перемен, избирались из среды ее братии опытные настоятели, управлявшие довольно долго, чтобы поддержать внутренне ее благосостояние. Таким образом, место благонамеренного Досифея заступил казначей его Иероним и почти до исхода столетья стоял во главе обители, тщательно вникая во все ее нужды и обновляя все обветшавшее. По его представлению умножены средства для поддержания мореходных судов, и ему подчинили воинскую команду в монастыре, потому что опасность непрестанно угрожала со стороны шведов. В 1790 году прислали даже опытных инженеров для осмотра укреплений соловецких, и ими устроены три батареи вне ограды; но на сей раз без боя миновалась опасность, а местом, указанным для батарей, воспользовались в нынешнюю осаду.
При архимандрите Ионе сооружена вновь каменная церковь святителя Филиппа на место обветшавшей, рядом с собором Спасским, и благолепно украшены среброковаными ризами местные иконы во всех храмах. Им же устроены новые братские келии и пространная гавань на случай зимних непогод, где бы могли безопасно стоять суда, с южной стороны монастыря: такова была заботливость сего ревностного настоятеля. Между тем, по случаю впервые угрожавшего нападения от англичан, весной в 1801 году прибыли гребные суда из Архангельска с двумя гренадерскими батальонами, с пушками и воинскими снарядами, под начальством генерала Докторова. Туча сия, грозившая обители, в то время миновалась без грома; она должна была разрешиться над ней полвека спустя, чтобы осиять ее новой славой. В 1814 году, при восстановлении всеобщего мира, выведена была из Соловецкой крепости в Новодвинскую артиллерийская команда со всеми годными орудиями и снарядами; в то же время разосланы по различным приморским укреплениям почти все орудия, жалованные монастырю от прежних государей.
В тяжкую годину Отечественной войны 1812 года соловецкие иноки, хотя и не участвовали лично в подвигах воинских, однако жертвовали от себя, как и в прежние времена, посильного подаяния до 5000 рублей, чрез архимандрита своего Илариона, а несколько лет спустя, при бедственном опустошении Греции, архимандрит Макарий жертвовал не только деньги, но и жемчуг, и утварь, для искупления бедствующих единоверцев из варварского плена турецкого.
Десятилетнее управление второго архимандрита Досифея, с 1826 года, было полезно для вещественного блага монастыря, потому что он особенно занялся хозяйственной его частью, обновил ризницу, устроил два мореходных судна и соединил каменными мостами чрез морские заливы два ближайших острова к Соловецкому, на расстоянии 120 саженей, для скитного двора и огородов. Им укреплены также две угловые башни, и два прилегающих озера к обители соединены каналом, длиной в две версты. Он исходатайствовал и умножение числа монашествующих, которое сделалось необходимо для распространяющейся обители; но лучшей его памятью остался, на Анзерском острове, Распятский скит, который был им совершенно обновлен. Скит сей основан посреди острова на уединенной горе, называемой Голгофой, в начале минувшего столетия схимником Иисусом, который был долгое время духовником царского семейства и пожелал безмолвствовать на этой уединенной горе, служившей искони пристанищем для отшельников. Он оставил для сего настоятельство Анзерского скита и устроил на горе деревянную церковь в память Распятия Господня, но не успел возвести каменного здания и преставился на месте своего подвига, в глубокой старости. Церковь, им сооруженная, пришла в совершенную ветхость и, на ее место, архимандрит Досифей соорудил великолепную каменную церковь, с колокольней, трапезой и кельями, и вершину горы устлал плитами; а бывшую деревянную церковь перенес под гору, на то место, где преподобному схимнику Иисусу было видение Матери Божией с преподобным Елеазаром, первоначальником Анзерского скита.
Еще одно царственное посещение утешило обитель, 140 лет после вторичного похода великого Петра; 15-го июня 1844 года Великий князь Константин Николаевич приплыл к Соловецкому острову на военной шхуне «Полярная звезда», которая именем своим соответствовала сей царственной звезде, воссиявшей на родном Севере. Настоятель Димитрий соборно встретил в Святых вратах дорогого гостя, который слушал литургию в церкви Преподобных, благоговейно поклонялся их священным ракам и, подобно великому своему предку, разделил братскую трапезу. На другой день посетил он и два уединенных скита Анзерского острова, Троицкий и Распятский и, возвратясь в обитель, отплыл обратно в Архангельск. В память его посещения сооружена каменная часовня на берегу и в ней поставлен большой деревянный крест, на котором он собственноручно означил имя свое и год приезда.
Окончив сим радостным для обители событием ее исторический обзор, приступим к описанию славной ее осады. Провидение Божие избрало на сие время человека достойного, который возмог исполнить великое дело, ему предстоявшее, а не упасть духом посреди угрожавшей ему отовсюду опасности. За год до нашествия неприятеля, назначен был в настоятели Соловецкие архимандрит Александр, из протоиереев архангельского военного собора, после многолетнего вдовства и различных семейных скорбей. Но, принимая иночество, мог ли он думать тогда, что призывается защищать наследие преподобных Зосимы и Савватия от врагов иноверных? И вот, по неисповедимым судьбам Божиим, он сделался защитником вверенной ему обители!
Осада Соловецкой обители
Хотя и приняты были некоторые меры для защиты обители Соловецкой на случай нападения врагов, однако не могла бы она устоять, если бы здесь явно не обнаружилась сила Божия в немощи человеческой для того, чтобы по слову Апостольскому «хвалящийся хвалился только о Господе». (1Кор. 1:31). Так как все старые орудия, исключая только двух, разосланы были в начале столетия, по различным крепостям, то из Архангельска прислали для защиты стен восемь малых шестифунтовых пушек. При них считалось воинской команды только 50 человек инвалидов, которые находились при постоянной страже арестантов с пятью артиллеристами, и к довершению беззащитности: начальник сей малой горсти ратных, умер пред самим приходом неприятеля: с такими средствами обороны ожидали нападения!
Но ревностный настоятель заблаговременно начал возбуждать дух малого своего стада к мужественной защите и прибегнул к средствам духовным. Кроме положенных ежедневно канонов и акафистов, он начал еще совершать по воскресным дням, за всенощной, во всех храмах, акафист Сладчайшему Иисусу, а по субботам за утренней, также акафист Матери Божией; сам он читал их в церкви Преподобных, у священной их раки, пред чудотворной иконой Пречистой Девы, в давние времена принесенной из Греции, и много иных песнопений учредил во славу Заступницы Небесной, прежде победы делая уже победителями уповающих на помощь свыше. За три месяца до осады, 25-го апреля 1854 г., по случаю отправления драгоценностей церковных внутрь России для безопасности, архимандрит, после соборной литургии в храме Преподобных, увещевал братию: не унывать, что неприятель готовится проникнуть в наше Белое море, но вооружиться против него молитвой и постом, и тут же заповедал: со всей строгостью поститься три пятка трех последующих недель. «Знайте, – сказал он малочисленной братии, отправлявшейся вместе с утварью, – что где бы вы ни были, на море или на суше, когда придет пяток, мы все здесь в обители, каждый по своей силе, молимся и постимся; вы то же делайте, и вас Господь помилует и сохранит достояние угодников, с вами отправляемое, неприкосновенным, и если вы сохраните сию мою заповедь, то возвратитесь опять в свою обитель, в целом здравии, при спасении всего, что с вами было».
Однако, с приближением опасности, смущенная братия начала упадать духом, как будто оставлена была на жертву врагам, которые уже плавали по Белому морю: страх сей доходил до слуха настоятеля. За десять дней до нашествия англичан, отслужив соборно воскресную литургию, он произнес опять краткое слово для одушевления братии, внушая ей: не скорбеть о том, что мала видимая защита к предстоявшей обороне от сильного врага, но твердо уповать на Господа и пречистую Его Матерь и преподобных основателей Зосиму и Савватия; ибо сам Господь заступлением их покажет такое чудо над обителью, какого дотоле там не видали». Умилившаяся братия несколько успокоилась, возвергла печаль свою на Господа и на предстательство его угодников, и Господь не посрамил их упования.
Между тем, так как уже не было никакого сомнения о намерении англичан подступить с вооруженными судами к обители Соловецкой, настоятель при слабых своих вещественных средствах приготовлялся, как только мог, встретить его с мужеством, подобающим православному и русскому. Чтобы поддержать дух в народе, он велел продолжать начатые работы монастырские и смолить все крыши; с его благословения ежедневно производились обычные послушания, как будто не предстояло никакой опасности, так что многие его осуждали за такое мнимое равнодушие; но когда впоследствии увидели, что не могли легко загораться от неприятельских бомб еще не просохшие крыши, оправдали предусмотрительность его распоряжений. На случай пожара расположил он по стене достаточно воды и мокрых войлоков, и приготовил в погребах сколько мог воинских снарядов (не более однако считалось 500 ядер и 20 пудов пороха); из оружейной палаты явилось опять оружие давно минувших дней на случай рукопашного боя, потому что все хотели скорее умереть, нежели сдаться.
Это были малоизвестные ныне копья, бердыши, секиры и несколько совсем уже негодных оружий, которые были сложены в арсенал еще от времени царей московских: Феодора Иоанновича, Михаила Феодоровича, Алексия Михайловича, и покрылась вековой ржавчиной. Так некогда, для защиты Соломонова храма, в дни нечестивой Гофолии, благоговейный первосвященник Иоадай вынес из хранилища древнее оружие царя Давида, употребленное им против филистимлян, и раздал оное левитам. И здесь настоятель вооружил всех, которые только могли носить оружие, сими древними залогами прежней силы обители Соловецкой. Не одни возрастные взялись за оружие; сами дети, присылаемые родителями по обещанию на богомолье, бросились на древние мечи и копья, и немедленно начали свои военные действия на дворе монастырском, как будто наступая на самого неприятеля. Кто мог равнодушно смотреть на этих малюток-героев, столь бестрепетно ожидавших врага, когда и у взрослых невольно сжималось сердце! Двухдневная осада не могла поколебать сего младенческого мужества: они играли бомбами, как шарами.
За два дня до осады архимандрит еще однажды одушевил братию словом упования в вере: «Что скорбите, братия, будто мы забыты и нет у нас войска? Нет, не забыты мы, а это Божий о нас промысел: если отразил войском, то войску и слава, а наша вера где? где и упование на Бога? Если же мы, молитвой и верой, отразим неприятеля и нам Господь поможет, то будет Богу хвала, обители же вечная слава, что без войска отразили супостата!» Слово его оправдалось.
И вот наконец, 6 июля, в 8-м часу утра, бдительные стражи увидели с башни монастырской два неприятельских вооруженных судна, которые вышли из-за Белужьего мыса и, подойдя на 10 верст к монастырю, остановились на якоре; по высоте мачт и труб видно было, что это два трехмачтовых фрегата-парохода. Опасность была неминуема; настоятель прежде всего прибегнул к духовной защите: немедленно наложил он трехдневный пост, отслужил молебен Божией Матери и Преподобным и сделал крестный ход вокруг всего монастыря по стене с чудотворными иконами, сам же, для большего смирения, без облачения и митры. Потом сказал должное увещание нижним чинам и всем, которые пришли в монастырь для богомолья, внушая им «стать храбро за святую обитель, и что каждый получит награду от Бога и от царя».
Дабы умножить способы в защите, пошел он в арестантские палаты, где содержались ссылаемые в монастырь на заключение и, зная личные свойства каждого из них, предложил тем, на кого мог надеяться, участвовать в защите и тем загладить свою вину; таким образом, одушевив малое число своих ратников к защите, сам предался на волю Божию. Слабая надежда блеснула на краткую минуту: неприятельские суда, простояв около пяти часов на якоре, снялись и поплыли, при сильном попутном ветре, как будто к югу, по направлению к Кеми; но опытный настоятель не поверил этой надежде. Не теряя времени, решился он воспользоваться последними минутами до нападения и вместе с тем, кто заведовал инвалидной командой, прапорщиком Никоновичем, поехал осматривать места, где можно было укрыть берег; они взяли с собой несколько охотников, из нижних чинов, и два трехфунтовых орудия; богомольцам и послушникам велено было рассыпаться по острову и за лесом следить неприятеля. За два дня перед тем была уже устроена батарея на берегу, на которую поставили две пушки; остальные восемь расположили по стенам и башням; но защитники соловецкие хотели еще сверх того поставить на острове вооруженные пикеты и, в течение четырех часов, ездили и ходили по берегу, отыскивая удобные места. Во время сих разъездов внезапно увидели, что оба английские парохода, те самые, которые, казалось, удалились в море, подходят опять к острову уже с юга, прямо по направлению монастыря.
При виде судов архимандрит и начальник военной команды поспешили возвратиться для защиты монастыря; а фейерверкер артиллерийский, с двумя унтер-офицерами, десятью рядовыми и частью охотников, коим были выданы ружья из старого арсенала, остались при орудиях на башне, в таком положении, что их не было заметно. Одно неприятельское судно остановилось против самой батареи, в монастырском заливе, не подозревая о ней, а другое бросило якорь в некотором расстоянии; тогда уже ясно стало видно, какой величины были трехмачтовые cии пароходы, вооруженные каждый 60-ю орудиями, с архимедовым винтом: имена их Бриск и Миранда, и они сохранятся в летописи монастырской. Едва только успел возвратиться настоятель к Святым воротам, откуда были видны мачты фрегатов; из-за леса, как вдруг первое неприятельское ядро со свистом пролетело мимо ног его и, никого не тронув, ударилось в сами врата. Затрепетали стоявшие поблизости и бросались запирать их. «Что вы это? – вскричал отец Александр, более изумленный страхом своих, нежели вражеским ударом, – еще неприятель далеко, а вы уже смешалась! Посмотрите, сколько народа вне монастыря: если вы запретесь, то как они спасутся?» Мужество его ободрило оробевших и дало благоприятный оборот всему делу. По третьему выстрелу неприятелей отвечали им из двух орудий нашей батареи, и так удачно, что от нескольких выстрелов сделано повреждение в ближайшем судне и ранен притом один англичанин; пустивши около тридцати ядер, удалилось оно к другому фрегату, и тут же в глазах наших начало производить починку, расположившись для ночлега за кладбищенским мысом, не более как в саженях десяти от берега.
Когда прекратилась пальба, уведомили настоятеля о счастливом выстреле и о том, что воины наши, оставив батарею, перешли далее на оконечность мыса, где самой природой образовано место, имевшее все удобства батареи; они отстояли его на следующий день с неимоверной храбростью. Архимандрит, несмотря на свои старческие годы и на усталость четырехчасового странствия по острову, сел опять на лошадь и поспешил на оконечность мыса. Не думал он об опасности, ибо поставлял общественную пользу выше собственной жизни и, остановившись на открытом месте, против самих их фрегатов, спокойно их осматривал, но спутники предостерегали его криком; тогда только опамятовался, увидев, какой опасности добровольно подвергался. Обрадованный первым, хотя и слабым успехом, отец Александр со слезами обнял и расцеловал фейерверкера Друшлевского за его удачный выстрел; помощь Божия уже обнаруживалась в добром начале; он поздравил и всех находившихся на батарее со славной победой и царской наградой. К вечеру все утихло; так миновался сей первый, страшный день осады; ночь с 6-го на 7-е число протекла в монастыре спокойно, на молитве и на страже, ибо кто мог предаться сну в столь страшную ночь ожидания?
Наступило 7-е число июля, предпразднество Казанской иконы Божией Матери, день навсегда памятный для обители Соловецкой по тому страдальческому подвигу, который она вынесла на Севере за землю русскую. Богослужение утреннее совершалось своим порядком, в соборной церкви Преображения Господня, когда после великого славословия пришло от неприятеля надменное требование немедленной сдачи. Дерзкое письмо сие, на английском языке, с искаженным русским переводом, прислано было на гребном судне под белым флагом с парохода, именуемого Бриск, за подписью весьма напыщенной: «Эразмуса Омманея, капитана фрегата Ее Великобританского Величества, главнокомандующего «эскадроном» в Белом море» (как будто кавалерией) и проч. и проч.
Объявляя, что монастырь принял на себя характер военной крепости, что 6-го числа производилась пальба на английский флаг, он предлагал в удовлетворение за такую мнимую обиду четыре строгих условия, с немедленным их исполнением: комендант гарнизона лично должен был через три часа отдать свою шпагу и весь гарнизон должен был без условий, с пушками, оружием и всем прочим сдаться через шесть часов; в случае нападения на парламентерский флаг бомбардирование монастыря немедленно последует, равно как и в случае отказа исполнить предлагаемые условия. Остров Пези (по-нашему Песий) назначен для общей сдачи гарнизона. На конверте депеши написано было по-русски следующее: «по делам Ее Великобританского Величества, его Высокоблагородию, главному офицеру по военной части, Соловецкой». Не подозревал вражий вождь, что настоящий начальник соловецкий вооружен был вместо меча стального мечем духовным, который есть глагол Божий, по слову апостольскому, и сим молитвенным мечем отразит он всю силу вражию, как искони привыкли иноки соловецкие отражать иную силу невидимых врагов!
Архимандрит, прочитав грозное содержание присланного письма, ни мало не медля отвечал, за подписью: «Соловецкий монастырь», ибо не хотел выставлять имени своего в неприязненной переписке. Решительно отказал он во всех дерзновенных требованиях неприятелю; о бывшей же пальбе изъяснил, «что не прежде последовала она со стороны обители, как уже после трех ядер, пущенных в нее с английских пароходов, без всякого уважения к святыне, почему монастырь вынужден был обороняться». Ответ сей послан был на лодке с отставным чиновником Соколовым, который находился в монастыре для богомолья. Не ожидавший столь мужественного отзыва, Омманей объявил, «что вслед за отказом начнется бомбардирование и монастырь будет совершенно разорен». Не довольствуясь сей угрозой, хотел он употребить и английскую военную хитрость, которую однако легко разгадал русский здравый смысл. «На пароходе есть русские пленные, – сказал он, – возьмите их с собой на берег». «А много ли их?» – спросил уполномоченный. «Вам незачем это знать», – возразил капитан. «Так незачем и брать их, – отвечал Соколов, – мы ничего не можем сделать без дозволения архимандрита». Раздраженный капитан грозился силой их высадить на берег, однако не решился этого сделать, потому что видел выглядывающих из леса охотников с ружьями, которые расставлены были для того, чтобы под предлогом пленных англичане не высадили своих стрелков. Омманей, раздраженный изобличением своего умысла и совершенным отказом на все его требования, в порыве ярости давал сроку только до 8-ми часов того же утра; схватив шпагу свою, стучал он ей по борту, чтобы испугать наших посланных и кричал: «Без трех восемь, без трех!» Но едва только успели они сойти на берег, как уже Омманей задымил пароходы и, в три четверти 8-го часа, начал приводить в исполнение свою угрозу «в течение трех часов сжечь и сравнять с землей всю обитель». Страшная сия канонада продолжалась девять с лишком часов, бомбами, гранатами, картечью, даже трехпудовыми калеными ядрами, но несмотря на это, заступлением Угодников Божиих обитель Соловецкая осталась цела.
Пока еще шли безуспешные переговоры, благочестивый настоятель велел совершить литургию в трех храмах: соборном Преображения, в приделе преподобных Зосимы и Савватия и в больничной церкви святителя Филиппа. По окончании соборной литургии сам архимандрит, с коленопреклонением, читал акафисты Царице Небесной, пред ее чудотворной иконой, и Преподобным, у их священной раки. Во время сих вопиющих на небо молений началась пальба, и бомба прошибла стену в Преображенской паперти; она разорвалась с ужасным треском, зажгла в паперти иконостас, избила осколками потолок, наполнила дымом всю паперть и весь собор, и произвела столь сильное потрясение, что все стекла грохнули, все двери с громом распахнулись сами собой, и многие люди попадали на помост церковный; сам настоятель пошатнулся, но устоял. «Стойте, стойте, не бойтесь, только молитесь», – со слезами увещевал он всех; народ, опамятовавшись от ужаса, потушил запаление и опять, с большей горячностью, потекли молитвенные вопли к Богу.
Три странницы из числа семи, находившихся в то время в обители, оставались на молитве в соборе по окончании литургии, когда треснула внутри его бомба; они упали на помост церковный и, ползая на коленях, отворили боковую из собора дверь, прямо к ракам Преподобных. Бледные, как призраки, внезапно явились они в дверях, пред лицом молящегося духовенства и парода; настоятель велел их поднять и поставить между богомольцев. Одна бомба, по-видимому, едва не разрушила вековое, каменное здание собора: вот до чего простиралась опасность! но и множество бомб, каленых ядер и гранат, не сожгли даже деревянной гостиницы вне ограды: вот до чего простерлось милосердие Божие!
По окончании молебствия в церкви Преподобных, архимандрит, не смотря на страшную пальбу, решился, со всем освященным собором и в полном благолепии церковном, совершить крестный ход по стенам, вокруг всей обители, чтобы сим духовным оружием отразить вещественное. При умилительном пении тропаря: «К Богородице ныне прилежно притецем, грешнии и смирении, и припадем в покаянии зовуще, из глубины души: Владычице помози, на ны милосердовавши; потщися, погибаем от множества прегрешений; не отврати Твоя рабы тщы, Тя бо и едину надежду имамы». Двинулся крестный ход из собора, чрез монастырский двор к Святым вратам. Когда же поднялись по стене к храму Благовещения, что над вратами и, продолжая пение, возгласили «Всемирную славу» и далее «Дерзайте убо, дерзайте людие Божие», внезапно открылись и дерзость неверных, и дерзновение православных: с залпом грянули неприятельские пушки и вспыхнула крыша на мельнице внутри монастыря, построенной на подземном канале из Святого озера, но тут же сама собой угасла; зашипели трехпудовые ядра и бомбы, задрожала крепостная стена и затрещала на ней деревянная крыша; огненные шары насквозь ее прорывали и, с потрясающим шумом, неслись над главами шествующих; ядра или падали на землю, ударяясь в стены братских келий, или пролетали насквозь келий, все в них истребляя: смерть была на волос от каждого.
В сию страшную минуту надобно было остановиться для литии, на южной стороне ограды, против самих пароходов, где угрожала наибольшая опасность: стал настоятель и осенял на все стороны животворящим крестом и чудотворной Сосновской иконой Божией Матери, которую нес в руках. Ядра летали выше голов; но едва только духовенство двинулось вперед с места литии, внезапно два двухпудовых ядра пробили крышу и вырвали сам помост, оглушив треском народ так, что задние с воплем остановились, но раненых не было. Смутились и предшествовавшие, не смея идти далее вперед. «Идите, идите», – спокойно приказывал им настоятель, и шествие восстановилось столь же чинно и торжественно под свистом ядер, как и под более привычным для слуха иноческого звоном колоколов. Поют, идут, обходят по стене кругом всего монастыря, мимо зажженной мельницы; минуют ад, зияющий над головами и у ног, хотя и не без особенного биения сердца, и спускаются со стены у Благовещенских ворот, что подле Святых. Тут должен был остановиться крестный ход, ибо казалось невозможно было дойти до собора: таким огненным градом сыпались ядра и бомбы на монастырский двор, прыгая по той самой стезе, по которой надлежало идти. Настоятель, видя неминуемую опасность, решился воспользоваться сим временем, чтобы дать приложиться к чудотворной иконе Божией Матери, которую нес в руках защитникам обители, отстреливавшимся со стен. Он вручил святую икону манатейному монаху Геннадию и послал ее на Прядильную башню, где стояли при орудиях несколько инвалидов и послушников для тушения огня на случай пожара. Пока посланный ходил в башню, народ смотрел во внутренность двора, где множество чаек сидело на своих гнездах, и с изумлением видел, что ни одну из них не ранило. Эти дикие птицы с незапамятных времен совершенно овладели монастырским двором, как неотъемлемым своим достоянием; они прилетают в обитель с весны, на праздник преподобного Зосимы, и в течение лета спокойно высаживая детей своих, улетают опять на зиму под более теплое небо.
Невредимость чаек под смертоносным дождем успокоила несколько народ, видимым покровительством Божиим. В это время фейерверкер артиллерийский пришел с батареи просить настоятеля дать ему 12 человек, чтобы вынести из-под холодного собора большой ящик с зарядами. Архимандрит отделил ему нужное число людей и артиллерист мужественно повел их прямо к собору, по самой той тропе, где падали ядра, но ни одно их не коснулось. Благополучно вынесли они порох и хотели возвращаться той же стезей, но архимандрит закричал им, чтобы шли мимо больничной церкви, кругом под южной стеной к Святым вратам, для избежания опасности порохового взрыва.
Между тем возвратился с башни инок Геннадий с чудотворной иконой, и настоятель, приняв из рук его сию святыню, велел крестному ходу, с Богом, двинуться вперед. Как только тронулось шествие, чудное совершилось знамение: ядра, дотоле падавшие на землю, стали летать поверх народа, перелетая даже за ограду в Святое озеро, так что никто из идущих не был ранен. Однако, во время служения молебнов у раки Преподобных, ядра так сильно ударяли в стену алтарную, что от сотрясения вылетали стекла и молящиеся падали на землю.
Настоятель неисходно водворился в церкви и сам служил беспрерывные молебны Господу и Пречистой Его Матери, святителям Николаю и Филиппу, и преподобным Зосиме и Савватию. Иногда только останавливался он для отдохновения и распоряжений, а между тем приказал духовнику, Варнаве, всех исповедовать и приобщать запасными дарами, полагая, что в случае высадки неприятеля беззащитный монастырь будет сожжен и многие погибнут. Ожидая себе прежде всех смерти, он также исповедался. Бывший строитель анзерский, достопочтенный старец Савватий, видя молитвенный подвиг своего начальника, тут же сказал: «Не может быть, чтобы Бог не услышал слез нашего настоятеля и не помиловал нас». Таковы были пламенные его молитвы Господу и его угодникам:
«О многомилостиве Владыко, Создателю всея твари видимыя и невидимыя! Твоею божественною властию вся быша! Ты нас недостойных и непотребных рабов Твоих посетил еси страхом; но щедрою милостию не остави погибнути до конца от лютаго супостата, воюющаго и угрожающаго обители и нам грешным».
«О Пресвятая Госпоже Дево, Богородице, скорая помощница и заступница рода христианского, родившая плотию Сына Божия! Ты предстоиши престолу Владычню, непрестанно молишися о рабех Твоих к Сыну Твоему и Богу нашему, скорая помощница всем к Тебе прибегающим, по Бозе, с верою и упованием на Тебя, Богомати!»
«О преподобные отцы наши Зосимо и Савватие, молитвенники наши! Вы обрели на море-океане и благословили остров сей, и насадили его трудами и слезами посвященное место Богу и иноческому сожитию, и аки виноград зрелый принесли плоды добродетелей своих. Вы создали и украсили обитель вашу святую, и нас привели от конец земли, и водворили нас недостойных, оставивше нам наследие ваше, яко чадом своим, и мы ныне грешнии по Бозе к вам прибегаем, яко к молитвенникам и ходатаям к Богу и Его пренепорочной Матери, о еже избавитися обители вашей и нам от грядущаго страха лютых супостат, воюющих на Святую Православную Церковь и угрожающих обители вашей, яко же и ныне избавили от меча и огненного запаления. Не имамы надежды ни на оружие, ни на воинскую силу, токмо на Божие милосердие, и на пречистую Матерь Спаса и на ваши святые молитвы. Не дайте в поругание святые обители и нас грешных, да прославится имя ваше и обитель Богом спасенная, и по всей земли, и в православных христианах ведомо будет чудодействие».
Когда такие пламенные молитвы возносились в храмах внутри обители, посмотрим, что происходило вне ее ограды. За братским кладбищем, в кустарниках, на оконечности мыса, два унтер-офицера с десятью инвалидами и горстью охотников, с двумя пушечками, коих ядра были величиной с яблоко, решались до смерти стоять и устояли против двух военных пароходов, которые расположились по обеим сторонам мыса, с сотнями воинов, со 120-ю пушками, с тысячей пудовых и двухпудовых каленых ядер и бомб, с тысячами пуль, гранат и картечей, со всей готовностью к высадке и мечами, жаждущими крови. Кто опишет хотя сотую часть бывших там смертных случаев, обратившихся ни во что? Кто опишет падение не одной ужасной бомбы, как та, что упала в Преображенскую паперть, но сотни бомб, еще ужаснейших, которые осыпали и мыс, и обитель над главами русских витязей? Не один раз засыпало их землей, обдавало осколками ядер; им не давали отдохнуть и на несколько минут, в течение девяти полных часов, под тучей дыма и громов не умолкавших над нами орудий. Смерть заглядывала им прямо в глаза и холодной рукой как бы уже касалась их сердца; храбрые воины едва успевали припадать при появлении огня, и отряхиваться от земли под самыми выстрелами; они ползли по земле к своим пушечкам и, улучив одну минуту, опять их заряжали и откликались: «Мы тут!» На их единый щелчок отзывались громы, содрогалась земля и густая туча дыма превращала для них ясный день в мрачную ночь.
Настоятель, видя, сколь велика была опасность для находившихся на батарее, приказал снять оттуда людей, но старший унтер-офицер Пономарев отвечал: «Трудно будет монастырю, а мы готовы умереть!» Воодушевляя всех, продолжал он противиться во сто раз сильнейшему врагу: дважды срывало с него фуражку, неоднократно заваливало землей, по четверти часа нельзя было приподнять головы от земли; так часты были неприятельские выстрелы, что нельзя было даже различать их и что-либо слышать посреди грома и мрака, но горсть храбрых не робела: некогда было бояться. Особенное мужество оказали рядовые Тимофей Антонов и Терентий Рогожин; отставной же унтер-офицер Николай Крылов не только самим делом, но и веселым русским словом не позволял ни на минуту своим товарищам призадуматься.
С тремя из них отдалился он от батареи, чтобы из различных мест развлекать неприятеля ружейной стрельбой; сам засел в яму за кочку, и так ловко действовал оттуда, что обратил на себя ярость неприятеля. Под тучей ядер, картечи и пуль, пред самим вражеским судном, ни на что не смотря, заряжал и палил он на коленях до тех пор пока не осталось ни одного заряда; тогда опять, чтобы не оставаться без дела, побежал на батарею, под градом пуль, по открытому месту. Разделявший на мысу все опасности вместе с нашими героями, отличный стрелок, норвежец Гардер, который из любопытства посетил обитель, пораженный столь невероятным сохранением всех, невольно воскликнул: «велик русский Бог!» и, по снятии осады, пожелал принять православие. Действительно, Бог один мог только спасти сих чудных витязей, достойных всякой награды за беспримерно исполненный ими долг, в отношении Государя, отечества и всего православного народа.
Поморяне, бывшие в плену на судах английских, рассказывали потом, что англичанин хвастался им своими пушками, и говорил: «Хотя ваш царь и богат, но таких у него нет; а вот, – продолжал он, указывая на наши ядра, – вот русские злые собачки стреляли», и показывал раненого этими собачками в руку. Потом расспрашивал: «Много ли на Соловках войск?» и на ответ: «Сколько теперь, не знаю, а обыкновенно не более шестидесяти человек», возразил: «Не может быть, я за каждым кустом видел сотню». Капитан сознавался, что истраченных им снарядов при осаде соловецкой, достаточно было бы для разрушения шести городов. По словам тут находившегося кемского купца, он выходил из себя, что не мог зажечь калеными ядрами деревянные строения и приписывал всю свою неудачу русскому Богу и чародейству монашествующих.
Во время служения молебнов пред раками Преподобных прибежал с батареи рядовой Николай Яшников, с лицом, забрызганным грязью, и сказал настоятелю: «Пожалуйте нам на батарею икону или крест».
«Не ходи, – отвечал архимандрит, – я послал приказание снять людей с батареи; грозит опасность и я боюсь за вас», но Яшников сказал: «Я штрафованный, и желаю умереть или заслужить милость». Тогда архимандрит, дав ему икону, благословил его и сказал: «Я тебя не забуду». Верно исполнил свою обязанность штрафованный солдат; свято сдержал свое слово и настоятель, обратив особенное внимание начальства на сего храброго и неустрашимого воина. Тогда же послал он благочинного иеромонаха Николая со святой водой на батарею, окропить ей храбрых воинов и мужественно исполнил он опасное сие поручение, под огнем неприятельским; а между тем наместник иеромонах Матфей бегал под выстрелами по всему монастырю, для потушения огня там где загоралось, и был достойным помощником своего твердого начальника.
Вот и еще несколько замечательных случаев сей чудной осады: один монах нес из монастыря ядра на батарею; на возвратном его пути падает пред ним 96-ти фунтовая бомба и, прокатившись, останавливается. Старец пошевелил ее палочкой, взял и понес. «Что мало несешь?» – спросил его изумленный очевидец происшествия. «Больше нет, будет с меня», – отвечал хладнокровно старец. Тот же самый инок шел от Святых ворот к больнице: ему советовали идти ближе к стене, чтобы не задели ядра; «Им своя дорога, а мне своя», – спокойно отвечал он. Один из монахов, глухой, заметив, что неприятельские шары хорошо щеплют крыши, начал собирать это щепки на растопку, чтобы даром не пропадали, как вдруг упала близ него бомба, разорвалась и осколком своим оборвала рукав его рясы, не причинив однако монаху ни малейшего вреда; старец спокойно посмотрел на рукав и в утешение себе сказал: «Ну, ничего, я сам зашью».
Другой глухой старец (простяк), избравший себе в больничном коридоре, в дровяном углу, особое темное место для чтения Иисусовой молитвы, по обычаю творил там свое святое дело; в то время, с неприятельских пароходов происходила неумолкаемая канонада, так что и сей затворник почувствовал сотрясение, и с огорчением должен был прервать беседу свою со Сладчайшим Иисусом. Едва передвигая ноги, вышел он в коридор и спрашивал: «Што-то стукает, што-что стукает?» Когда же принесли ему большое ядро и сказали: «Вот что стукает, этакими англичане стукают!» – то он весьма равнодушно отвечал: «А! Аглеценин? Он здесь? А я думал, наши пробуют пушки. Ну когда это аглеценин, – продолжал он, – так у нас Бог есть, Пречистая есть, да и Никола с Преподобными; мы его не боимся!»
Когда, 7-го и 8-го июля, вся братия приобщалась Святых Тайн, по обычаю Православной Церкви, нужно было много просфор, тогда просфорник-староста, с другим иноком, заботясь о заготовлении оных, шли мимо придела Архангела Михаила, где не редко падали ядра и бомбы; но в беседе о просфорах не обращали они внимания на происходившую пальбу; вдруг, в нескольких от них шагах, разорвало бомбу, приразившуюся к стене, под самую крышу придела. Старики, указывая на эту бомбу, по-прежнему продолжали свой путь и разговор о заготовлении просфор. «Я, – говорил староста, – боялся только того, чтобы где не загорелось, а о смерти не тужил; это дело неизбежное».
Один старец, обитающий в больничном коридоре окнами в самую крышу крепостной стены, с той стороны, где стояли неприятельские пароходы, затеплил лампаду Царице Небесной, приставил к окнам два образа: один преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, а другой – восстановителя честных икон, святого патриарха Тарасия, и архиепископа Газского Порфирия и, помолившись им, сказал: «Преподобные, спасите»; с сими словами вышел он из своей келии и запер дверь. Что же? В соседней келье бомбой прошибло окно, изломало мебель, истрескало стены и пробило дверь; также и с другой стороны, в соседней же келии, проломало ядром стену; но к всеобщему удивлению, из всех пяти келий того коридора уцелела только одна келья старца, огражденная иконами, в которой не повредилось даже на единое стекло. Не есть ли это явная чудодейственная сила Угодников Божиих!
Один старец лежал в своей келье на койке и боролся с помыслом: выйти посмотреть, что делается? Но лишь только он вышел из келии, как ядро, оборвавшее железную крышу на Казначейской палате, влетело чрез окно в келью старца, ударило в стену над самой его койкой, исщепило заднюю ее доску, потом отскочило к лежанке и по полу скатилось в угол. Если бы старец не вышел из келии, то подвергся бы неизбежной гибели.
Тот же старец свидетельствует, что он сам видел на дворе, как подле одного птенца грянула бомба: едва оперившаяся чайка приподнялась, равнодушно посмотрела на железного гостя и уселась рядом: кто дал такое бесстрашие пугливому птенцу? Другая бомба, приразившись к стене Преображенского собора, упала в стаю маленьких чаек и разорвалась; но они успели разбежаться, не потерпев ни малейшего вреда. У деревянного шатра Прядильной башни, лицом к морю, свила чайка гнездо и вывела детей. Башня сия, по высоте своей, была повреждена; шатер ее сверху навылет пробило ядрами, а внизу, под Чайкиным гнездом, вырвало несколько досок и в слуховом окне не осталось ни одного стекла. И что же? Гнездо чайки сохранилось, как будто на воздухе, посреди растворенных ворот, и птички по-прежнему с писком просили у матери пищи.
Будильник монах Ипполит заметил, что в этот день, в 2 часа пополудни, чайки по всему монастырю кормили птенцов своих, чего, в продолжение 12-ти лет своего послушания, он никогда не видал: «Не быть сегодня добру в монастыре!» – сказал он; и действительно в тот день чайки, поднявшись с утра, не садились более в монастыре на свои гнезда. Вместе с нашими поверенными, слетались и они на английские пароходы, потом бросились назад в монастырь и несколько часов кружились в высоте, с великим криком, как это им обычно, когда пролетает орел чрез монастырь, и уже целый день не кормили детей. Когда же усилилась канонада, чайки густым облаком взвились над самыми вражескими фрегатами и пронзительным своим криком как будто прогоняли англичан; и не одним криком они им докучали, так что раздраженный неприятель вынужден был вступить в бой с птицами, запятнавшими его честь; но сколько в них ни стреляли, нигде не видно было ни одной мертвой птицы! Таков птичий разум, ибо и чайки в этот замечательный день оказали свое мужество и преданность обители.
О, великое ходатайство и заступление пред Богом соловецких Чудотворцев! Все бесчеловечные усилия неприятеля, клонившиеся к тому, чтобы совершенно нанести разрушение святой обители, страшными своими снарядами, остались посрамленными; обитель же сохранилась в целости и повреждения оказались самые незначительные, которые могли быть поправлены в несколько часов; хотя и загоралась иногда крыша, но ее легко заливали и потушали мокрыми войлоками. Наиболее пострадала обширная деревянная гостиница, занимаемая в летнее время богомольцами, которая стоит на открытом месте, за оградой, без всякой защиты; но и ее не мог ни разрушить, ни зажечь калеными своими ядрами неприятель; однако в ней найдено было после осады множество бомб и гранат, и целых, и треснувших, с обгорелой затравкой и нетронутым порохом, между щепок и соломы, которые не загорелись, хотя крыша была во многих местах пробита. Неужели все эти бомбы было подмочены так, что ни одна не зажигала? и могут ли подмоченные разрываться? Некоторые из них произвели однако много пробоин и ядра пробивали по нескольку капитальных стен! Неприятель наиболее старался метить в купола церковные, по своему неблагоговению к святыне, но, не смотря на то, не мог сделать почти никакого вреда самим храмам; в куполе Никольской церкви виден небольшой пролом и в кладбищенской церкви святого Онуфрия, находящейся за монастырем, пробило насквозь ядром стену; но часовни, стоявшие также за оградой, которые служили постоянной метой для неприятеля, остались невредимы.
Как один из первых ударов разразился в паперти Преображенского собора, так и после девятичасовой ужасной пальбы, над тем же собором разразилась ярость неприятельская последним их ударом. Ровно в 5 часов, когда вечерний колокол возвестил, что наступает время празднования Казанской иконы Матери Божией, Заступницы нашего любезного отечества, последнее английское ядро пролетело насквозь стены, поверх лика Знамения Пресвятые Богородицы, которая написана древней кистью, еще в дни святителя Филиппа, над западными вратами, при входе в главный собор. Сию рапу благоволила принять за обитель Царица Небесная, как и Сын ее за весь мир, и самый лик на иконе, после сильного потрясения, как будто сделался бледным из темного; после сего удара уже не слышно было враждебных орудий: их заменил обычный звук колоколов.
В 6-м часу пополудни неприятель, утомясь, стал на якоре, и на судах не заметно было никакого движения; но в монастыре никто не чувствовал усталости и все были на страже и молитве; вслед за малой вечерней, приступили к служению всенощной, во всех церквах, на праздник Казанской иконы Божией Матери, с чтением акафиста Пречистой Деве. Это неседальное служение во всю ночь могло напоминать о самом происхождении акафиста в Царьграде, в ту страшную годину, когда скифы подступили на судах к столице греческой в отсутствие войска и царя, и патриарх, со всем народом, прибегнул к заступлению Царицы Небесной. Праздник Похвалы Божией Матери, в субботу на пятой неделе Великого поста, ежегодно свидетельствует нам о сем дивном событии, как и теперь у нас летнее чествование Казанской Ее иконы, будет всегда напоминать о чудном избавлении обители Соловецкой.
Никто не спал в сию знаменательную ночь, предшествовавшую освобождению, ибо все ожидали конечного нападения и смерти; молитва, слезы и пост не прерывались. Во всех храмах литургия началась в 3 часа утра, когда все еще спали на судах вражеских; сам настоятель служил у Преподобных, без всех отличий, как простой иеромонах. В ожидании усиленной пальбы все до единого сделались причастниками Святых Тайн и, после литургии, собрались к преподобным и служили молебен у их раки: снова совершен был крестный ход по стенам, с такой же отважностью, как и накануне; все шли как бы на отчаянную вылазку, ибо это было их единственное оружие и защита, и надежда их не постыдилась: в самое время крестного хода неприятель стал разводить пары на судах; ожидали выстрелов и, вместо них, внезапно, к общему изумлению, суда снялись с якоря и удалились от обители; можно ли выразить словами радость освобожденных? Окончивши крестный ход, сейчас же со стены подошли к западным вратам собора, и тут на дворе, пред пораненной иконой Знамения Пресвятой Богородицы, начали служить Ей благодарственный молебен; сам настоятель, на коленях, со слезами читал акафист, и все плакали от избытка чувств. Можно ли удивляться, что сердца многих обратились к Богу в сию торжественную минуту? Не один иноверец пожелал Православия, но и из наших отступников пожелали некоторые возвратиться в лоно матери своей Церкви, к вере отцов своих, и остаться навсегда послушниками в обители. Молодой рекрут, из раскольников, Шурупов, который дотоле, по своему заблуждению, не хотел принимать присягу, вразумленный чудным освобождением обители, в защите коей принимал вместе с другими деятельное участие, в порыве чистого раскаяния, пожелал немедленно выполнить присягу и остаться всегда на службе при монастыре.
Однако неприятель еще не сейчас оставил острова Соловецкие и, при удалении от монастыря, обесславил себя святотатством. Приблизившись к острову Заяцкому, на котором стоит деревянная церковь, во имя Первозванного Апостола, сооруженная Петром Великим, он сделал в нее несколько выстрелов. Англичане сошли на берег и, не заходя в гостиницу, прямо устремились к церкви, разрубили топором двери, воровским обычаем взломали кружку и высыпали медные ее деньги, потом дерзнули коснуться и самой святыни. Они раскрыли Царские врата и обнажили святой жертвенник; на память славной своей осады, похитили они три малых колокольчика, в 14 фунтов веса, и святотатной рукой сняли с иконы Матери Божией два крестика, которые за несколько дней пред тем были повешены богомольцами; тем и окончился здесь их ратный подвиг. Два старых инвалида, по любви к пустынной жизни, уединенно живущие на острове для охранения церкви, сидели недалеко от нее, в расселине скалы, и оттуда наблюдали за хищниками.
Они поплыли далее к Анзерскому острову; там ночью, 11-го июля, заметили, с Голгофской горы, неприятельские суда; в ужасе все разбежались по лесам из скитов Троицкого и Распятского, и остались только три старца и слепая старушка из Архангельска, ежегодная посетительница Соловецкой святыни; старец пономарь с другим иноком, решились неисходно пребывать в храме анзерском, хотя надлежало бы им и умереть. Третий же старец, служащий на кухне, в простоте своей веры, удивлялся бегству братии и приписывал это помешательству; он усердно принялся за свое дело и стряпал все, что нужно было к наступавшему престольному празднику Михаила Малеина, на другой день 12-го июля. Пономарь на рассвете по обычаю ударил в колокол к утрене; братия понемногу начала сходиться из леса; ради страха нашествия не служили обедни, но совершили только водосвятие и, вкусив трапезы, удалились опять в лес, кроме тех, которые решились остаться. «Они с ума сошли!» – твердил незлобивый брат на кухне, и по-прежнему принялся за свое дело; спокойствие его и неустрашимость вполне оправдались.
Из Соловецкой обители, с вершины соборного купола, наблюдали за движениями неприятеля под анзерскими скитами. Настоятель послал туда двух рабочих с ружьями, сухим путем до морского протока, отделяющего Анзерский остров от Соловецкого, узнать, что делают англичане? Фрегаты их, ставшие на якоре в виду обоих скитов, послали лодку за пресной водой; значительный неприятельский отряд, со всеми предосторожностями, приблизился к берегу, осторожно высадился и поспешно начал добывать себе воду из болота. Два наши стрелка дали англичанам время окончить свое дело и тогда один из них выпалил из ружья. «Русские, русские!» – закричали англичане и поспешно отчалили, не причинив никому никакого вреда. Но удивительно, что горсть русских монахов испугалась двух английских пароходов; но не удивительно ли, что два огромных парохода английских испугались двух русских мужичков, которые даже и не показались им на глаза, а только с берега однажды выпалили в них из ружья?
Таким образом совершилось сие чудное и, можно сказать, бескровное освобождение обители от врагов ее уже видимых, как бы от невидимых, молитвой, постом и трехдневным принесением бескровной жертвы. Тотчас, по удалении врага, настоятель приложил еще трехдневный пост и с тех пор все оставалось мирно в обители. Благоговейные иноки, по свежей памяти, записали все замечательные случаи сей осады, дабы они могли послужить в назидание современникам и потомству столь явным свидетельством милости Божией. Настоятель же, для более прочного воспоминания о чудном избавлении, испросил у Святейшего Синода и получил разрешение ознаменовать оное, некоторыми памятниками и особенными молитвословиями.
Таким образом пред Святыми вратами сооружены три пирамиды: одна из 42-х гранат и ядер 96-ти фунтовых, другая из 170-ти гранат и ядер 36-ти фунтовых, третья из разорванных гранат разного калибра и разбитых ядер и бомб, которые собраны были по монастырю и вне ограды. Это была только малая часть их, потому что большая часть ядер и бомб перелетали через монастырь в Святое озеро, или падали в морскую губу пред Святыми вратами, и сверх того много было разобрано ядер и бомб любопытными посетителями и богомольцами, приезжавшими с берега вскоре после осады. Тут же поставлены две малые пушечки монастырские, которые два дня были в деле, на берегу моря, и выдержали сильную канонаду на батарее, где никто из людей не был ранен.
По крышам храмов и строений все пробоины, бывшие от ядер, обозначены краской; но самое драгоценное знамение милосердия Божия, пробоина на иконе Божией Матери над западными вратами собора, останется навсегда неприкосновенной и будет говорить потомству: что Господь допустил страшное сие нападение на обитель, «да явятся дела Божии на ней» (Ин. 9). Под сей иконой надпись: «Призови Мя в день скорби твоея! Царица Небесная заступила Соловецкую обитель, от девятичасового бомбардирования англичанами, и благоволила усвоить Себе, в этой иконе, поражение 96-ти фунтовым ядром; последний выстрел сей был в благовест вечерний, 7-го июля 1854 года. Мати Божия, даждь победу и одоление на враги императору нашему, да и мы в тишине его поживем, во всяком благочестии и чистоте». А на Святых вратах другая надпись: «На начинающаго Бог! изрек монарх благословенный; не сотвори тако Господь всякому языку». Таковы памятники вещественные, но вот и духовные: ежегодно, 7-го июля, назначен пост всему народу в монастыре и скитах, и на следующий день крестный ход по стене монастыря, с чудотворной Сосновской иконой Божией Матери, и молебен с акафистом на паперти, пред пораненной иконой Знамения Богородицы; в каждую субботу, на утрене, чтение акафиста Матери Божией, настоятелем соборно, пред чудотворной Ее иконой, что над ракой Преподобных и, в самый праздник Знамения, опять соборный молебен пред пораненной иконой Владычицы. Все сие должно совершаться ежегодно, а еще для большей памяти, ежедневно, на каждой литургии, исключая великих Господских праздников, после входа с Евангелием, положено петь на клиросах кондак Божией Матери: «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычице; Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобой хвалимся, Твои бо есмь рабы, да не постыдимся». По окончании же каждой службы поется посреди храма, еще одна умилительная молитва Матери Божией, которой оканчиваю и свое описание чудного освобождения обители Соловецкой: «Под Твою милость прибегаем Богородице, молений наших не презри, но Сама заступи и помилуй, едина чистая и благословенная».
1854 г.
Впечатления Украины и Севастополя
Святые Горы
По этому листочку, который выпадет вам из моего письма, вы убедитесь, что я исполнил сердечное поручение ваше и помолился над гробом вашей матери и, во свидетельство сему, сорвал листок с дуба, растущего близ ее могилы. Счастливее вы других, давних жильцов Святых Гор! Вчера приезжал сюда преподобный Антоний Кишиневский, на пути из Оренбурга в свою новую епархию; ему хотелось поклониться праху своих родителей, ибо отец его служил здесь диаконом при бывшей Богородицкой церкви, до обновления обители Святогорской; но когда, отслужив панихиду в соборе, пошел он на кладбище, с прискорбием увидел только один насыпной холм, без различия могил: все уравняло время! Вчера мы слушали еще одну умилительную панихиду, в пещерной церкви Антония и Феодосия: это была годовщина архиепископа Иннокентия.
Службу совершал соборно сам архимандрит и нечаянно избрал сию подземную церковь для ранней литургии; а между тем эту лишь одну, во всей обители Святогорской, освятил сам Иннокентий! Когда шел он крестным ходом на сие освящение, внезапно поворотил к могиле почившего пред ее входом столетнего старца Мафусаила, который указал пещеру, по старой памяти минувшего; «Помолимся прежде о летописце Святых гор, – сказал Преосвященный, – ему мы обязаны сохранением пещерного храма», и отслужил над могилой его панихиду, как и теперь ее отпели в память самого обновителя Святых гор. Я описываю вам эти подробности, зная, как вы уважаете память покойного архиепископа. Архимандрит Арсений сказывал мне, что в последнее посещение обители, когда возвращался с коронации преподобный Иннокентий, уже предчувствовал он близкую свою кончину и, прощаясь в Святых вратах, поклонился до земли настоятелю и всему братству, прося себе прощения, если чем их оскорбил во время управления епархией, «потому что, – присовокупил он, – мы уже не свидимся более в земной жизни».
Что вам сказать о Святых горах? Они вам довольно знакомы и я уже высказал свои впечатления в первом моем описании, но здесь столь многое говорит сердцу и воображению, что всего, кажется, и не выскажешь. Отрадно благоговейное служение в пещерных церквях и невольно потрясается сердце, еще исполненное звуками божественных песней, когда внезапно видишь пред собой, при выходе из скалы, самое чудное зрелище: и мирный Донец в его глубокой долине, окованный отовсюду меловыми утесами, и необозримую лесную дебрь, как море зелени, на окраине коей белеют опять меловые горы. Не могут довольно насытиться такими видами взоры, от них отвыкшие, после однообразия северных равнин. Всей роскошью южной природы дышит этот чудный оазис, как бы отрывок иной лучшей страны, нечаянно брошенный в сию пустыню. Роскошно встретила здесь пришельцев Севера благодатная весна, каких давно не запомнят, освежаемая шумными дождями и частыми грозами, после коих благоухает воздух ароматами тополей, лип и белых акаций. Мы дышим этой чудной атмосферой на Святой горе и не можем довольно надышаться. Всю сию ночь шумела страшная гроза, раскаты грома отзывались в горах и все небо сверкало молниями, но я не мог решиться закрыть окна от теплоты благорастворенного воздуха, и любовался бурей стихий с высокого моего терема; а вчера опять нельзя было закрыть окна на ночь, чтобы не лишить себя весенней песни соловьев, одушевляющих росистую украинскую ночь. И так вы видите, что мы делим здесь наши ночи между раскатами грома и трелями соловья: кажется, тут довольно поэзии! С годами охладевают чувства, но это чувство еще живо в моей душе: я также любуюсь и теперь живописными видами и также наслаждаюсь ароматной ночью и соловьиной песнью, как это бывало в давноминувшем «вчера» моей молодости, когда охотно просиживал целые ночи, на прилавке своей хаты, под навесом цветущих яблонь.
Вы довольно любезны, чтобы не спрашивать, когда было это «вчера»? Оно далеко и слилось с минувшим так, что не отличишь его поблекших красок, на этом постоянно свивающемся за нами свитке (чтобы не сказать саване) всех наших чувств и впечатлений, которые мы называем минувшим. Тут уже, по сильному выражению поэмы Данте, «и воздух не окрашен временем», quell’ aria senza tempo tinta, т.е. на этом небосклоне нет уже красок ни утренней, ни вечерней зари, по чему бы можно было различить время дня: так бывает и с нашим минувшим, когда все в нем сливается в одно бесцветное целое.
Знаете ли, однако, что никогда Малороссия не производила на меня столь сильного впечатления как теперь, хотя я познакомился с ней еще в первые годы молодости, ибо там начал полковую свою жизнь. Может быть это от того, что я всегда въезжал в нее с другой стороны, от Севска, а не от Курска, и Черниговские пески и болота, с их греблями, не поражали так мои чувства, как харьковские степи с их более южной растительностью; или быть может я был лучше расположен теперь принять сии впечатления, встречаясь с Украиной, как со старым знакомцем? Скажу только, что никогда столь разительным не представлялось мне столкновение двух разнородных краев и племен Великой и Малой России. Здесь действительно Украина наша и даже обоюдная, той и другой Руси, и мне жаль, что недавно утратилось историческое название Слободско-Украинской губернии, которое так верно выражало самую частность и образ ее населения; такие названия возникают не по произволу и они незаменимы.
В Обояни, собственно, кончается великая Русь на ее высокой горе, откуда русский человек любит, по родной своей пословице, и себя показать и людей посмотреть, и отсюда, как бы по некоему обаянию, внезапно начинается Малороссия, с мирными удольями, в которые любит укрываться ее народонаселение, по своему природному духу и местными обстоятельствами. Не далеко за Обоянью, как только спустишься с песчаной горы, въезжаешь в первое малороссийское ущелье, длинную греблю, непроходимую весной и осенью, обсаженную плакучими ивами, которая тянется версты на две и служит преддверием к обширному селу, раскинутому на песках совершенно во вкусе наших соотечественников. После сих украинских Фермопил изменяется характер самой страны, и курские высоты постепенно склоняются к харьковской равнине. Белгород уже носит на себе отпечаток совершенно южного города, углубившись в живописную долину на скромных истоках Донца, с белыми своими обителями и соборами. Это была основная кафедра слобод Украинских, из которой истекла к югу широким потоком, даже до моря, церковная жизнь нашей Украины. Утешительно было поклониться нетленному блюстителю своей паствы в бывшем соборе Белгорода святителю Иоасафу, который ныне охраняет ее неусыпной молитвой, в придельной церкви Страшного Суда, им устроенной для своей усыпальницы, доколе не наступит таинственный день сей!
После Белгорода уже настоящая Малороссия. Редко на пути встречаются селения, разве только одни станции, но вы видите обширные села по сторонам в глубоких оврагах, где серебрится узкая лента какой-либо безымянной речки, местами запруженной в широкий став. Длинная полоса итальянских тополей, стройно взвиваясь по удолью, напоминает роскошную растительность того чудного края, из которого переселились к нам сии нежные выходцы юга, не переносящие северных вьюг. Крылатые мельницы оживляют преддверия живописных селений на соседних высотах широкими размахами своих крыльев, будто ведут они между собой шумную беседу, недоступную мимоходящему путнику, как непонятны ему и загадочные движения телеграфа, беззвучно произносящего слова.
И вот, посреди сей зеленой пустыни, по которой вы мчитесь, сталкивается в глазах ваших с севером юг, и два народонаселения, совершенно различных по духу своему и характеру, идут на встречу одно другому, представляя собой разительную противоположность. С курских высот спускаются веселые парубки, которые идут, распевая, на промысел до дальнего Таганрога. На мелких лошадках везется все их летнее достояние, и кто постарше, с проседью на бороде, тот сидит на облучке, управляя телегой, а молодые разбрелись по сторонам, в шумной беседе перебивая дорогу встречным. Им навстречу медленно поднимается с харьковских равнин пустынный караван попарно впряженных волов в длинные фуры; белые волы сии, заменяющие для Украины восточных верблюдов, совершенно соответствуют характеру зеленых ее степей. Неподвижно, бесстрастно, в белых свитах как бы в саванах, сидят обожженные солнцем чумаки на своих колесницах, будто не чувствуя, движутся ли они вперед, и не принимая никакого участия во встречающихся предметах. Один только, впереди первых волов, управляет всем караваном. За фурами следуют с поникшей головой волнообразные псы, особой породы, усвоенные нраву своих хозяев.
Сотни и тысячи верст совершают сии караваны, сохраняя везде самобытный свой характер, являясь большей частью чуждыми тому краю, чрез который столь равнодушно проходят, но здесь оно в своей родной стране: пустынная рама, их окаймляющая, выставляет в настоящем свете своенравные их фигуры. Иногда вслед за скрипучими возами, тащится на опрокинутом плуге молодой хохленок, в белой косматой шапке, со всей важностью старого чумака, ибо в этом по видимости безжизненном племени разность возраста не прибавляет и не убавляет жизни; но попробуйте раздразнить их и тут разыграется, в полной силе, южная природа, которая дремлет только до времени и до крови.
Любил я смотреть и на ночной отдых этих степных караванов, когда, распустив в поле белых волов своих и разложив огни между собранных на дороге фур, сидели около, живописными кружками, рослые чумаки и варили себе пищу в кошевых котлах. Ярко освещало пламя их смуглые лица, напоминавшие старых запорожцев, когда еще их деды заселяли слободами своими Украину и ватагами ходили на ляхов и на крымцев. Много минувшей жизни возбуждалось в памяти, при виде сих безжизненных по виду путников, и чумацкий ночлег в украинской степи, под ее теплым небом ярко горящими звездами, сильно говорил воображению. Но я увлекся вашими земляками и совершенно забыл, что речь идет о Святых горах.
Вы бы не узнали обители Святогорской, так она расширилась и процвела в короткое время; я и сам тому подивился на расстоянии семи только лет. Уже и белая ограда широко раскинулась, опускаясь и подымаясь по зеленым горам. Честь и слава отцу архимандриту Арсению; это великий строитель и можно сказать, что ему обязана своим существованием обновленная обитель, при скудных средствах; он умел привлечь к ней не только всю Украину, но и самый Дон, и ничем более, как приветливым словом и благолепной службой. Сегодня Господь сподобил меня приобщиться внутри скалы, в церкви Предтечи, где некогда обретен был, на меловой скале, чудный образ святителя Николая. Соборно совершал литургию сам архимандрит и с нами молился схимник, затворник Иоанн, который семь лет спасается чудным подвигом в сердце скалы. Его келья, иссеченная в камне, примыкает к алтарю пещерной церкви. Отрадно было молиться в чудном храме, утаенном от взоров человеческих, внутри скалы; никогда не слыхал я столь умилительного пения херувимской песни на глас «Благообразный Иосиф». Из всех служб, которые ежедневно совершались то на верху скалы, то в подземной церкви Чудотворцев Печерских, утешительнее всех для меня была сия литургия в сердце утеса, близ келии затворника, который напоминает собой времена давно минувшие Египта и Палестины, и нашего родного Киева. Знаете ли, что обитель Святогорскую можно назвать миссионерской в полном смысле сего слова для всего южного края. Теперь, в Петров пост, всякий день стекаются сюда поклонники для говенья, а в Успение число их удесятерится. Не только по субботам и воскресеньям, но ежедневно в будни, во всю неделю, по двести и по триста человек приобщались в соборной церкви, или за ранней обедней на вершине скалы. Народ собирается за двести и триста верст, чтобы только поговеть на Святой горе, хотя имеет сельские свои приходы. Вот что значит священное предание старины и обитель иноческая, во время и на своем месте устроенная! Это живой катехизис для целого края. Давно ли обновились Святые горы и уже как широко распространился круг их действий!
Архимандрит показал мне на вершине скалы малую часовню, во имя Ангела моего первозванного Апостола, с его иконой в углублении утеса, как это обещал он мне устроить за семь лет тому назад. Пред иконой горит лампада, а на скале написано большое распятие, которое издалека видно с противоположного берега реки; от сей часовни открывается чудный вид на глубокую долину Донца. «Вы видите, что мы сдержали данное вам слово, – сказал он, – и место это слывет у нас Андреевской часовней».
Меня изумила позолота крыши и всех глав горней церкви Николая Чудотворца на утесе, которая ярко горит от солнечных лучей и придает много красоты всей обители, как выспренний венец ее на темени гор. «Откуда такое обилие золота? – спросил я архимандрита, – или вы очень разбогатели в эти семь лет?» «Нет, средства те же, – отвечал он, – но и не без добрых людей на свете. Приехала к нам одна больная помещица, подняла икону Чудотворца на скалу и, почувствовав облегчение, призвала меня в гостиницу. «Вот вам две тысячи рублен, – сказала она, – но с одним условием, чтобы вы все это употребили на позолоту верхней церкви Святителя». Сколько я ни представлял ей, что есть другие более необходимые нужды в обители, она настоятельно требовала, чтобы выполнена была ее воля, и это случилось не без Промысла Божия, потому что когда стали переменять листы, оказалось, что прогнило совершенно дерево и необходимо было исправить крышу; таким образом этот нечаянный случай послужил не только на украшение, но и для пользы обители».
Скажу вам, как святогорцу, принимающему живое участие в обители, и о выборе места под летний собор, который теперь составляет предмет особенных попечений настоятеля. Архимандрит хочет иметь обширную церковь, для помещения всех богомольцев в Успенский пост. Я советовал углубить далее в гору новый собор и сделать его как можно легче, чтобы соответствовал прочим зданиям, не гоняясь слишком за простором, который могут доставить терраса и хоры, при меньших размерах храма; колокольню же поставить на задних воротах, столпообразную. Церковь в скиту уже отстраивается, во имя великого Арсения, и это будет самый отрадный приют для любителей безмолвия иноческого. Вот вам мой отчет о Святой горе. Оставляю теперь мирную обитель. Мне предстоит шестинедельный курс Славянских минеральных вод не далее как за двадцать верст отсюда; но и там я буду как в обители, далеко от суетной жизни, нераздельной со всяким стечением народным, потому что та же гостеприимная владелица, которая открыла мне свое роскошное жилище на Святых горах, предложила и мирное уединение на своем хуторе или даче, за четыре версты от Славянска.
28 мая 1858 г.
Славянск
Собираясь оставить Славянск, чтобы продолжать мое странствие в Крым, решаюсь написать о нем хотя бы несколько слов. Разлука делает более нас снисходительными и потому, покидая навсегда место, где протекло однако до пяти недель жизни, с невольным упреком спрашиваешь сам себя: неужели месяц времени, приблизивший нас к вечности, не оставил никакого впечатления? Так оно осталось и было мирно; здешний летний приют мой напомнил мне Останкино. Но я не в Славянске, а только близ него, в трех верстах, в уединенном хуторе Потемкиных, на весьма поэтическом по названию Макатихи, но не лишенном поэзии по своей гористой местности, где есть и леса. Отсюда открывается мне Славянск, во всей красоте своей, на дне глубокой долины, как бы в ущелье, а вокруг него необозримая степь, назнаменованная курганами, памятью мимотекших орд. И утро и вечер любуюсь с моего балкона живописной картиной сего мирного городка, который напоминает мне восточные. Белая, высокая колокольня его собора представляется издали как бы тонкий минарет, а низкие домики промежду садов довершают восточный характер города; особенно хороша эта картина, когда сбегает с нее ранний золотистый туман или когда румянит ее вечернее солнце.
Вот все, что могу сказать издали о Славянске, а вблизи он не занимателен. Не спрашивай же меня также, почему зовут его Славянском? Местные славянофилы, довольствуясь одним звучным именем, не любят доходить до его источника и, беспечно купаясь в соляных водах своего озера, мало думают о старине. Я слышал однако, что озеро и само место назывались прежде Тор, и только в начале нынешнего столетия прослыло Славянском, вероятно, по старой памяти славяно-сербских поселений в сих местах. Церковь времен Елисаветы еще доселе стоит на месте старого Тора, но мне отселе ее не видно, она ближе к водам, в глубине оврага. Опишу вам местность моего хутора, которая заслуживает внимания. Уединенный домик, весьма удобный для сельского жилища, стоит в полугоре; небольшая слобода Макатихи спускается по зеленому наклону вдоль дороги к Славянску; с правой стороны глубокий овраг с малым прудом, густо поросший лесом, который теперь благоухает цветущими липами; позади дома маленький вишневый сад, а налево высокий ветряной млин – эта неизменная печать всех малороссийских усадьб; кругом та же необозримая зеленая степь, которая составляет везде горизонт Украины. Но есть в окрестности довольно лесов по глубоким балкам, в которых можно найти много приятных прогулок.
Вы, конечно, спросите меня о пресловутых водах, которыми так славится Славянск; скажу лишь вкратце, ибо я не доктор, а только пациент и еще не совсем удачный, так как не по моему недугу пришлись воды; впрочем, это нисколько не умаляет их достоинства. Разлагать их химически не умею, а знаю только, что они весьма действительны против золотухи и ревматизма, и от этих двух болезней, по истине, бывали чудные исцеления. Но я никак не согласен, чтобы славянские воды могли служить панацеей против всех немощей человеческих. Для окрестных жителей может служить приятным развлечением Славянск, если бы даже и не было им облегчения от болезней; для меня же он был только перепутьем в Крым.
Три озера собственно составляют славянские воды, но одно из них, избранное предпочтительно для соляных заводов, пересыхает; другое же, к которому примыкает казенный сад, слишком едко для ран; на третьем, самом обширном, устроено заведение четырехугольное, с выступами для восьми ванн с каждой стороны. Еще десять ванн для холодного купанья устроены на озере, из которого накачивают воду в теплые; но надобно однако быть весьма осторожным в постепенности градусов при переходе из теплых в холодные, чтобы не простудиться. Сад вокруг заведения еще не разросся и потому нет возможности гулять в знойный день; это большой недостаток, который только время может исправить. На противоположном берегу озера устроены другие купальни для военных чинов, которых ежегодно сотнями сюда присылают при особом враче для пользования водами. Скажу и другую благотворительную сторону славянских вод: сюда приходят или привозят много страждущих золотухой и ревматизмом, которые, будучи лишены всяких средств, содержатся милосердием здешнего человеколюбивого общества и посетителей, под надзором главного врача Курдюмова, весьма благочестивого; это христианское попечение поистине делает честь Славянску.
Скажу вам несколько слов и о моем образе жизни, в течение целого месяца совершенно пустынном. Макатиха настоящий скит, только, к сожалению, без церкви, и это лишение весьма чувствительно, потому что ездить в город далеко. Я был даже вынужден просить священника Введенской церкви, более близкой к водам, служить для меня каждую среду раннюю обедню. Церковь сия, трехпридельная, носит весь характер времен Елисаветы и не лишена воспоминаний исторических: в ней стояло одну ночь тело блаженной памяти императора Александра, на пути из Таганрога, и в церкви даже сохранился гробовой катафалк. Скольких тяжких дум, скольких слез был свидетелем уединенный храм сей, в ту печальную ночь, когда отдыхал в нем смертным сном Умиротворитель Европы! Еще тогда свежо было впечатление кончины Благословенного! Славянск был только вторым городом на погребальном шествии чрез все необъятное его царство, внезапно покрывшееся трауром на протяжении нескольких тысяч верст. Сколько именитых лиц Русской державы собрано было в этом смиренном храме, а теперь, памятником всего бывшего в нем величия, остался один катафалк!
Говоря о храмах, которых здесь три (еще собор, во Имя Святой Троицы, устроенный усердием здешнего гражданина, и кладбищенская церковь), нельзя не упомянуть о благочестии жителей и стройном чине богослужения, которым удовлетворяет полный клир. В соборе, где два причта, образовался чудный хор из одних церковников, по необычайной звучности голосов малороссийских, который бы приятно было слышать и в большом городе. По праздникам, пред началом литургии, всегда читается акафист Матери Божией, а на конце каждой службы особая молитва пред ее иконой Неопалимой купины, по случаю избавления города от страшного пожара. Множество хоругвей составляет украшение здешних храмов и придает особое величие крестным ходам: таков был ход при открытии вод 1-го июня. От большого количества собранных хоругвей казалось, что много духовенства в нем участвует, хотя не более трех священников совершали молебствие на водах озера и окропляли ванны для исцеления болящих. Мне нравится еще один обычай, сохранившейся в здешних церквах и вообще в Малороссии и на юге России: здесь над каждым жертвенником есть сень в виде шкафа, для соблюдения церковных сосудов от пыли; это весьма прилично и даже полезно, потому что можно их запирать. На ектеньях поминаются не одни лишь имена усопших, но молятся и о здравии предстоящих по именам, и включаются молитвы о болящих и путешествующих: таким образом вся церковь участвует в общей о них молитве и это общение утешительно. Много еще простоты душевной и близких сердцу обычаев сохранилось в малороссийской церкви. Отрадно было мне, накануне больших праздников, ездить отсюда в Святые горы, которые отстоят только за восемнадцать верст; там, в пустынной обители, наслаждался я полным благолепием церковной службы и поднимался для молебнов на чудную скалу с иконой святителя: такие поездки оставляли всегда утешительное воспоминание в сердце и умиротворяли душу.
Когда мы приехали в Славянск, в исходе мая, то не смотря на холодное время и частые непогоды, неумолкаемое пение соловьев еще оглашало сад и чащу леса, в глубоком овраги близ нашего сельского приюта; здесь только мог я вполне оценить всю сладость сего пения. Украинский хор сих доброхотных певцов потешал нас и днем и ночью, так что не было даже слышно другой птицы, все умолкало пред сим музыкальным созданием; но в половине июня, как бы по данному знаку, внезапно все соловьи замолкли; их заменили иволги и кукушки, которые грустно кукуют под нашим окном.
Здесь каждое утро будто дышит молодостью: еще не успеет солнце обагрить влажного поля, которое все искрится крупными каплями росы, как мы уже подымаемся для пятиверстного странствия по степи в славянские купальни. Я довольно люблю эти ранние прогулки: все благоухает, еще не успел выдохнуться аромат безмятежной ночи; есть особый запах колосящегося поля, чрез которое мы проложили себе тесную межу, есть и свой запах скошенной степи; но еще благовонней сия степь во всей ее дикости, там где оставлена она для необъятного пастбища бесчисленных овец и волов; дико бродят по ней их белые стада промежду разбросанных курганов. Божья трава благоухает по всей степи, как бы извлекая из земли фимиам кадильный, во славу Творца, за чудную красоту Божьего мира и, посреди безмолвия утренней природы, раздается звонкая песнь жаворонка, теряющегося в глубине безоблачного неба. По этим свежим степям, между сторожевых курганов, спускаемся мы к водам, и нам живописно прорезывается из тумана белый Славянск, со своими озерами и садами.
При наступлении вечера люблю я на легком коне стремиться в глубину рощи, чтобы там искать себе прохлады после знойного дня и подышать благовонием лип; они сходятся густыми сводами над узкой тропой и как бы поседели от своего обильного цвета; но когда я сюда приехал, еще только цвели акации и не было колосьев в поле; все это зеленело и расцвело пред моими глазами, напоминая о скоротечности жизни, как те новые поколения, что вытесняют наше с лица земли.
Не подумайте однако, чтобы я праздно проводил время промежду беспечного купанья и созерцания природы; нет, я не потерял здесь месяца жизни и многое написал, между прочим две статьи французские, для моих Question religieuse d’Orient: одно есть обличение на латинское исповедание веры бывшего диакона английского Пальмера, которое изложил он, себе в оправдание при переходе в Римскую Церковь. Не странно ли, что мне довелось писать сию статью в том самом Славянске, где в 1851 году я с ним прощался и так усердно убеждал его принять православие? Предприму ли что-либо писать в Крыму? Не знаю, что еще внушат мне и море, и горы.
Не думайте также, чтобы уединенная Макатиха в смиренной своей неизвестности оставалась без посетителей; кроме приятных гостей, которые от времени до времени приезжают из знойного города подышать горным воздухом этой славянской Швейцарии, здесь посетил меня на перепутье в Грузию новый ее экзарх Евсевий. Несколько отрадных часов провел я в его пастырской беседе и мы взаимно поменялись впечатлениями тех мест, которые видели, ибо ему любопытны были сведения о Грузии, а для меня о западной Руси. Утешительно встречаться на пути жизни с такими добрыми пастырями, каков сей экзарх, достойный преемник прежнего.
Здесь ожидал я встретить и радушную владетельницу сих мест, чтобы благодарить ее за гостеприимный приют на Святых горах и в Славянске, но время не позволяет медлить. Грустно и то, что меня здесь не застанет заочный мой крестник, Султан Казы Гирей, вам известный по его христианским письмам. Быть может, мы встретимся с ним на пути в Таганрог, ибо тут пролегает дорога с Кавказа, или быть может, как потомок Гиреев Крымских, решится он посетить меня в бывшей колыбели своих предков, и будет со мной при заложении храма равноапостольного Владимира, над развалинами древнего Херсонеса, близ новейших развалин Севастополя.
27 июня 1858 г.
Симеиз
Если бы недуг не приковывал меня к моей террасе на большую часть дня и если бы не бессонны были для меня крымские ночи от волнения крови в душном воздухе, мне бы, конечно, отрадным представлялся уединенный приют мой в Симеизе. Здесь, в бывшем жилище Потоцких, посреди лавровой рощи на холме, обросшем кипарисами и платанами, маслинами и гранатами, наслаждаюсь я всей роскошью южной природы. Море чуть видно сквозь чащу лавров и кипарисов, хотя оно и близко, и кое-где лишь проглядывает в темной их окраине; но мне слышен шумный его голос, особенно сегодня, когда бушует оно белыми валами по тревожной синеве и вторит роскошная дубрава широко шумящему морю. Много поэзии в этой взаимной беседе двух стихий; земля однако умолкает, если слишком громко заговорит море; все смиряется пред ужасом его величия, но и оно смиряется пред Тем, Кто положил ему гранью утлый песок.
Есть И еще один голос, НО уже человеческий, который нарушает для меня пустынное безмолвие: это голос муеззина из соседнего селения татарского Симеиза; постоянно, пять раз в день, утром и вечером, скликает он к молитве, провозглашая единство Аллаха с вершины своего убогого минарета. Мне его также не видно сквозь чащу, ибо над лаврами синеет только темное небо юга и высятся верхи утесов, гранитной стеной сходящих к лиманам. Дики эти звуки муеззина, но они отрадны душе, как голос молитвы, хотя и чуждой, ибо иногда напоминают о ней и христианину, возбуждая благодарить Творца за то, что не дал нам коснеть во тьме невежества духовного и просветил нас благодатным явлением Искупителя. Тогда невольно пробуждается молитва и о тех, которые, будучи лишены сего блага, напоминают нам однако о молитве, дабы и их в свое время просветил Господь.
Не слышно здесь ни одной птички, которая бы веселым пением освежала душу, но жужжание бесчисленных насекомых в густых ветвях так наполняет воздух во все минуты дня и ночи, что к сему шуму невольно привыкает слух, как будто все совершенно тихо. Это постоянное жужжание действует однако на нервы и желалось бы хоть одной минуты той сельской тишины, которая так успокоительна в более средней полосе; южная природа томит иногда самой своей роскошью; я бы променял ее на одну украинскую ночь с ее соловьями, которыми так наслаждался весной. Но сюда всякую ночь прилетает незваная гостья, сова, садится на соседний лавр или кипарис и пронзительными звуками своей ночной песни не слишком тешит бессонного. Здесь называют эту вещую птицу совершенно наизворот: сплю, когда, напротив, она только будит спящих; но на южном берегу, ради лавров и кипарисов, надобно мириться и с совой.
Лавры и кипарисы! Ах, не есть ли это выражение нынешнего грустного впечатления Крыма после страшного побоища севастопольского? Много там было лавров, но еще более кипарисов! Вот почему невольно сжимается сердце на самых отрадных, по красоте своей, местах южного берега, при одном воспоминании о Севастополе! Все к нему влечет, как бы течением береговым в неизбежную пучину, и его родным пеплом, далеко разносимым, мысленно посыпано все поморье, как лавой и пеплом Везувия засыпались окрестные города. Не тот это уже Крым, которым восхищался я за десять лет пред сим, от края его и до края, от Керчи до Севастополя. Та же чудная природа, но по ней как бы простерся саван, объемлющий поморье, как эти дымные облака, которые бродят около вершины Яйлы, спускаясь туманами в долины. На всем лежит еще страшная рука минувшего; по всему берегу говорят о французе, пренебрегая англичанином, как будто бы сюда, на мирный дотоле берег Тавриды, спустился с возвышенной полосы средней России незабвенный наш двенадцатый год. Но взрыв Севастополя не есть пожар Москвы! Сквозь ее зарево сияли нам своими крестами златоглавые ее соборы, ободряя нас напоминовением Творческих слов разъяренному морю: «до сего дойдеши и не пpeйдеши, но в тебе сокрушатся волны твоя (Иов. 38:11). К сердцу Руси хлынула ее кровь и, опять отхлынув от сердца, одним порывом стерла враждебную стихию с лица родной земли.
А здесь одинокие мачты потопленных судов в заливе Севастополя гласят еще о гибели нашего флота. С обеих сторон сего залива неотпетые могилы и сам он, как бездонная могила, хотя и много славы ярким заревом осияло это страшное тризнище, где все, что только люди могли изобрести адского для взаимного истребления, было ими изобретено и, от стольких здесь столпившихся ужасов, осталась только одна ужасная память того, что совершилось! Доколе еще зияет кровавая пасть Севастополя со своей разбитой челюстью, нет мира русскому сердцу, хотя бы наслаждалось оно всеми красотами южного берега, и вот почему так грустно его впечатление тому, кто знал его прежде.
Если однако могут быть занимательны впечатления, хотя и тяжкие, которые произвел на меня многострадальный Севастополь, я изложу, скрепясь духом, то, что выстрадало мое сердце при обозрении его развалин. По глубокому выражению певца ада, я буду, как тот человек, который вместе и плачет, и говорит:
«Faro come colui che piange e dice».
26 июля 1858 г.
Впечатление Севастополя
Как только от великолепных ворот южного берега, поставленных на горном хребте, спустились мы в зеленую Байдарскую долину, уже стали показываться следы бывшего здесь неприятеля. На станции случайно встретился я с князем Долгоруким, ехавшим из Севастополя, и он мне передал планы города и окрестностей, составленные после осады; планы сии мне послужили дорогой к объяснению местности, ознаменованной военными действиями. В долине Арнаутской, пред входом в ущелье речки Шули, остатки кавалерийских бараков показывают, как далеко стояли передовые посты англичан. Все высоты, от ущелья к селениям Комары и Кадикиой, обозначены бывшими их лагерями и видны обширные конюшни кавалеристов; в разоренном теперь селении Комары помещался английский штаб.
Тут, на высотах Кадикиоя, одно отрадное воспоминание освежает душу: это память блистательного кавалерийского дела генерала Липранди, который нечаянным отважным натиском откинул неприятеля к Балаклаве и, еще не много, то довершил бы славный подвиг, потому что уже задымились пароходы, наполнявшие балаклавскую бухту и неприятель готов был жечь то, чего не мог спасти из своего флота, думая, что все русские силы на него нахлынули. Но если славно воспоминание сей битвы, грустно обратить взоры вправо от дороги на так называемые Федюхины высоты, горько ознаменованные неудачным нападением 4 августа, когда на них укрепился уже неприятель. Тут, в несчастной битве, пал Реад, рыцарь по духу, и Вревский, и с ними много храбрых, достойных лучшей участи.
Из селения Кадикиоя, где теперь станция, заглянули мы в Балаклаву, которая так прославилась в последнюю войну, будучи забыта со времен генуэзских. Там была главная пристань англичан, вмещавшая несколько сот пароходов и мелких судов; входили в нее и стопушечные корабли, не смотря на тесноту залива; все тут кипело жизнью и греческий городок казался одним из знаменитых портов Англии. Еще сохранился обширный деревянный помост, у которого приставали суда близ самого берега, по глубине бухты; видны и остатки железной дороги, которая отсюда шла в лагерь подле уцелевшего шоссе. Несколько пушек могли бы заградить вход целому флоту в сию пристань, укрепленную самой природой, ибо две медные пушки греческого батальона испугали тут целую английскую армию выстрелами из генуэзских башен.
Сами их развалины на устье Балаклавского залива свидетельствуют, как дорого ценили мореходцы Генуи сию незначительную видом бухту, которая представила столько удобств совершеннейшему из новейших флотов; но, обладая великолепной пристанью Севастополя, мы пренебрегли убогую Балаклаву, предоставив ее рыбарям греческим. Кому приходило на мысль, что она когда-либо будет иметь столь важное значение в воинской летописи?
От Балаклавы почтовая дорога к Севастополю идет по тому шоссе, которое провели англичане к своему главному штабу; оно соединялось также с другим французским шоссе, направленным к Камышевой бухте, где внезапно возник во время осады, как бы по волшебству, целый городок, со всеми житейскими прихотями. Странно нестись на русской тройке, с колокольчиком, по сему враждебному шоссе, промежду остатков огромных лагерей и неприятельских кладбищ. Вместо чичероне служит русский ямщик, который равнодушно указывает кнутом на исполинские становища и на места еще более исполинских битв; он олицетворял все воинские массы одним собирательным именем «агличана или француза», по мере того, как обозначались их лагеря или кладбища, направо и налево от дороги, и никогда не называл их во множественном числе. Это были как бы два страшных призрака заветного пути развалин. «Здесь стоял агличан, – кратко говорил ямщик, – вот его конюшня, а вот его и кладбище; таких много по дороге».
Страшно сказать, что до ста восьмидесяти иноверных кладбищ сдано было, по заключении мира, великодушному попечению бывших врагов, хотя и оскорбленных на родной своей земле, где теперь тлеют кости ее опустошителей. Устлали же и они своими костями землю русскую, и не даром! Все кладбища однообразно обнесены четырехугольной стенкой, с памятниками весьма скромными внутри и с надписями полков, которые здесь улеглись на вечный покой. На офицерских гробницах есть иногда камень с родственными эпитафиями. Над входом одного из таких кладбищ, где английская позиция сближалась с французской, написано: «Respect aux morts» (Уважение к мертвым). А сами они разве уважали усопших, и еще каких именитых, даже во время перемирия! Кто святотатно коснулся гробниц наших славных адмиралов, посреди основания начатого храма? Это не сделали бы и сами турки, более уважающие святость могил.
На половине дороги к Севастополю – дача Бракера, где умер английский главнокомандующий лорд Раглан и тут же был погребен близ сада. Впоследствии тело его перевезено в Англию, но сохранился памятник, а в той комнате, где скончался, мраморная доска свидетельствует о печальном событии для англичан. И путешественники посещают уединенную дачу; так уважают они своих.
Влево от шоссе стояла главная квартира французского вождя Пелисье, и с этих высот начинает уже открываться бедственный Севастополь; скрепя сердце мы к нему спускались. От четвертого бастиона, одного из самых обширных, который стоял на оконечности южной бухты и ограждал город с юго-западной стороны, открылась нам вся ужасная картина опустошения. Этот бастион был, по своей местности, постоянной целью приступов, почти во все время осады, доколе наконец враги не обратились более на восток, к Малахову кургану.
При первом взгляде на город нельзя поверить совершенному его разорению, видя еще стоящие здания на высоте холма и вокруг его подошвы; но это лишь белый призрак, тень отжившего Севастополя! Издали только еще существует, для глаз, насквозь простреленный его остов, в котором нет живого места; но если присмотришься, то взору предстанут одни лишь голые трубы и разбитые своды, или стены с зияющими окнами, из которых дико выглядывает водворившаяся в них смерть. Здесь самое ужасное ее торжество, которому едва ли имела подобное от начала мира: здесь она пожирала в день по две тысячи трупов, бросаемых ей не какой-либо всенародной язвой, но рукой человеческой, при помощи самых адских орудий, какие только могли вымыслить в новейшие времена наиболее образованные люди для взаимного истребления! И это повторялось не день и не два, как случается на полях битвы, но в течение нескольких месяцев! Есть ли еще где в летописях всемирных что-либо подобное сему кровавому тризнищу?
Сердце обливается кровью при въезде в город, который еще так недавно был и которого теперь уже нет, хотя еще весь он как бы стоит пред вами. Это впечатление Помпеи, вырытой из-под пепла Везувия! А здесь, сколько тысяч огнедышащих жерл извергали адскую свою лаву на родную нашу, обреченную гибели Помпею! Мы въехали в этот опустевший град гробов наших братий, по выразительному слову Святого Писания, (Неем. 2:3) между четвертым и пятым бастионами, мимо так называемого Шварцова редута, ибо здесь имена их строителей, или витязей более отличившихся на месте жестокого боя, ознаменовывали сами места. Вокруг были одни лишь развалины: ни одного целого здания, ни живой души, у кого бы спросить: что это за обломки? Я опять обратился к ямщику, как единственному указателю печальной местности. Так и в Помпее, на каждом шагу, спрашивал я своего вожатого: «Какое это здание?» Но там мне говорили о том, что случилось за тысячу восемьсот лет и, не смотря на то, еще целы были жилища давно отживших поколений; а здесь современник рассказывал мне о разрушении, которое представлялось как бы уже совершившимся за тысячу лет.
Вправо и влево две пустынные улицы, бывшие Екатерининская и Морская, соединяющиеся у Графской пристани, огибали высокий холм Севастополя, как бы Акрополис какого-либо древнего города. Холм сей доселе увенчан великолепным зданием бывшей библиотеки, которая лучше других сохранилась, хотя и на высоте, потому что выстрелы неприятеля были направлены не в здания, а в людей, укрывавшихся внизу около холма. Без сомнения, мысль об Акрополисе Афинском не чужда была нашему славному адмиралу Лазареву, напитанному классическим чтением древних; ему был обязан Севастополь своим кратковременным блеском, ибо морской витязь любил памятники древности; тут же на холме, подле самой библиотеки, соорудил он Афинскую башню ветров, с ее символическими изваяниями, которая доселе уцелела, а в полугоре церковь Святых Апостолов, по образцу Тезеева храма. Начал он воздвигать из великолепнейшего мрамора Италии и храм святому Просветителю Руси Владимиру, не на развалинах однако Херсонеса, по пристрастию своему к Севастополю. Думал ли он, что недовершенный храм сей сделается собственной его усыпальницей, где возляжет сам посреди трех храбрых своих сподвижников? Памятник морской доблести Козарского, также во вкусе древних, был им поставлен на самой оконечности сего Акрополиса, чтобы издали поражал взоры с моря, как на Аттическом мысе Суниума видна была гробница Фемистокла. Что если бы внезапно поднялся герой наш Лазарев и увидел вокруг себя разрушение всего того, что созидал он с такой любовью в течение многих лет! Но если мужественное его сердце, привыкшее к ужасам битв и к разгрому бойниц, могло бы вынести горькое впечатление сих развалин в надежде на их обновление, то не перенесло бы оно невозвратной утраты своего флота! Морской витязь отвратил бы лице свое от торгового Севастополя, там, где с юных дней воинская душа его наслаждалась только гулом ратным!
«Какое это было здание, все простреленное?» – спросил я опять моего чичероне. «Это театры», – отвечал он; «А подле?» – «Костелы». И то, и другое нам не сродны, подумал я; но, по мере того как подвигался по разоренной улице Екатерининской, все более и более сжималось сердце от невыносимого зрелища разбитых домов. Можно помириться с видом развалин давно минувших, но видеть их еще в населенном городе, это слишком дико и больно. Из уцелевших, или вернее сказать, из обновленных домов, я видел на Екатерининской улице только почтамт и дом, где живет командир порта и башню адмиралтейства, с которой сняли городские часы на квартиру французского начальника Пелисье: так поступали французы и в 1812-м году. Все прочее пробито ядрами и бомбами, как источаются червями плоть и кости: едва ли обретутся и в могиле такие угрызатели? Дом, где жил сперва близ адмиралтейства начальствовавший граф Остен-Сакен, много пострадал, потому что тут, ближе к южной бухте, было открытое место, между 3-м и 2-м бастионами; в этом промежутке неприятельские батареи с Зеленой горы могли свободно направлять выстрелы в любое здание, особенно когда был оставлен Камчатский редут, необходимый для защиты Малахова и всей бухты; это место сделалось самым опасным в городе.
Теперь мы спокойно о том рассуждаем, но каково было выносить в продолжение одиннадцати месяцев то раскаленное небо, которое тяготело над главой храбрых севастопольцев, с огненными его кометами, при непрестанном треске бомб и раскате громов из нескольких тысяч орудий! Не было ли это одним из предшествующих зрелищ последнего дня нашего мира, обреченного на сожжение со всеми его стихиями? Одно лишь утешительным представляется для взоров посреди всеобщего разрушения, как и в тот страшный день отрадным будет знамение Сына Человеческого, пред Коим восплачутся все колена земные: это две церкви Божии рядом. Одна из них, весьма малая и убогая, во имя Архангела Михаила, выстояла во все ужасное побоище Севастополя, напоминая зов последней трубы архангельской, ибо в ней ежедневно, по нескольку десятков славных усопших отпевалось под громом неумолкавшей канонады. Служители алтаря возглашали здесь: «Во блаженном успении вечный покой» доблестным мученикам нашим за веру и отечество, не обретшим себе на земле временного покоя и уже выстрадавшим венец свой при жизни. «Ей! глаголит Дух, Апокалиптическим гласом, да почиют от трудов своих, дела их ходят вслед за ними» (Откр. 14:13).
Другая церковь, во имя Святителя Николая, ангела царского, начатая прежде осады, продолжала строиться во время оной и была прострелена, чтобы также быть славной участницей страданий Севастополя; по миновании страшной бури обновлена она во вкусе византийском. Кто на нее посмотрит, не подумает, чтобы это был собор уже не существующего города; однако в священную ее ограду сходятся еще на молитву рассеянные промежду развалин богомольцы, ибо до десяти тысяч жителей считается в разоренном городе и его раскинутых слободах. От собора до пристани указывают остатки домов, где жили некоторые из именитых защитников города, бодрствовавшие здесь во все время осады. Тотлебен, Васильчиков снискали себе тут добрую славу на всю жизнь, другие же вечную память, ибо тут же и дома отживших: Истомина, Нахимова. Нахимов, оставшийся один после храбрых своих сподвижников, искал себе смерти везде, где только можно было ее встретить. Погребая братию свою, адмиралов, просил он их, чтобы потеснились для него в славной усыпальнице на верху горы, ибо предчувствовал, что скоро с ними соединится. Не хотел он оставить родного Севастополя с одними лишь своими моряками, если бы даже и все его оставили. Последний хотел он пасть на разбитых его твердынях, после того как пережил морскую его славу, и вот ему даровано было сие последнее утешение.
Против графской пристани стоит бывший дом собрания, весь простреленный, ужасный по своим воспоминаниям, ибо тут был вначале главный перевязочный пункт, доколе бомбы не вытеснили и отселе умирающих, пощаженных ими на редутах; на северной стороне залива устроилось им другое пристанище. Какими ужаснейшими стонами не огласилось это печальное вместилище всех возможных человеческих мук, которые заменили здесь прежнюю суетную веселость сего места! Со времен мученических были ли когда собраны воедино столь разнообразные муки? Свидетелями их были сии роковые стены, сами разбитые и как бы еще зияющие от видимого ими ужаса. Здесь действительно страдали мученики, безропотно положившие живот свой, в страшных истязаниях, за веру, царя и отечество, и никто не знает имени их, хотя их было несколько тем и даже тысячи тысяч; нельзя было оценить их неведомых страданий от самого их множества! Все это казалось тогда весьма обыкновенным, ибо к чему не привыкает восприимчивая природа человека? Гул неумолкаемых орудий заглушал стоны, как не слышно бывало вопля закалаемых жертв на требищах от трубного треска; ежечасное ожидание смерти делало наконец равнодушным к смерти; сам воздух, раскаленный от бесчисленных выстрелов и взрывов, казался обыкновенной атмосферой сего обреченного на погибель города. Сюда, со свежего воздуха, надобно было приходить учиться страдать и умирать; но тогда, от самого избытка страданий, эта тяжкая наука не представлялась страшной: многие желали смерти, чтобы только выйти из сего ужасного положения.
Но здесь, посреди мук, можно было учиться и делам христианского милосердия, от сестер милосердия, которые были земными ангелами сих мучеников, передавая их в руки небесных ангелов. Воздадим должную справедливость самоотвержению добровольных участниц всех ужасов брани, столь чуждой по видимому их слабому полу, ибо они мужественно несли иго Христово и погибали здесь, не только от заразительных болезней, но некоторые и от воинских ран. Но восхваляя их, вспомним и о Той, Которая сплела Себе неувядаемый венец их посольством в стан ратный; по Ее светлой мысли и человеколюбивому манию, впервые двинулось сие новое, немощное воинство, на помощь сильным и совершило великое, ибо по слову Апостола «Сила Божия в немощи совершается» (2Кор. 12:9). Никогда прежде не видно было сего на Руси, но никогда не бывало в ней и ужасов, подобных севастопольским: столь жестокие язвы требовали более нежной руки и сострадательного участия.
Едва могла мы найти себе помещение в тесной гостинице, потому что многие съехались на праздник обновления Херсонеса. Здесь ожидала меня приятная встреча с моим спутником по архипелагу, когда вторично странствовал я в Святую землю, в 1849 году. Барон Сталь (бывший тогда старшим офицером на фрегате) занимал теперь должность дежурного штаб-офицера при порте. Сколько ни был я утомлен быстрым переездом от Ялты до Севастополя на перекладной и в самый знойный день, не хотел, однако, опустить благоприятного случая, и просил Сталя в тот же вечер показать мне взорванные доки и повести меня на Малахов курган, которого имя сделалось столь громким во вселенной.
При закате солнца на легкой гичке переплыли мы корабельную бухту. Грустно было смотреть на исполинский остов морских казарм, который возвышался над бывшим адмиралтейством; вечером обманчиво представлялся он взору как бы еще во всей своей целости. Враги лукаво способствовали сему оптическому обману; они взорвали огромное здание казарм изнутри, сохранив его наружные стены, так что издали оно не поражает своими развалинами, хотя просвечивает пустота бесчисленных окон, как ямы провалившихся глаз в разбитом черепе; но здание никогда не может быть восстановлено, потому что треснуло само основание стен: так мощно действовала здесь адская рука разрушения, предупредившая само время. Скольких стоило миллионов, чтобы срыть только одну гору, на которой, по манию царскому, предполагалось строить новое адмиралтейство? Оно долженствовало быть одним из самых чудных зданий в мире и не довершенное пало! Исполинский труд рук человеческих, достойный древних колоссов Египта и Рима, одним мгновением обратился в ничто! А великолепные доки? Можно ли было столь варварски истребить их и для чего? Они уже не годились для нового устройства кораблей, но можно было пощадить их ради изящества; да и честно ли было взорвать их во время перемирия? Но уже таков дух надменных островитян – истреблять все, что только не их. Мы спустились в доки по груде обвалившихся камней, и столь же трудной стезей поднялись на противоположную сторону, чтобы выйти из ограды бывшего адмиралтейства; бывшего – как тяжело такое слово, когда еще недавно все это былое было и цвело.
Уже смерклось, когда вышли мы на чистое поле к Малахову кургану. В одно время с нами багровая луна поднималась на заветную его вершину; кровавый цвет ее вполне соответствовал местным воспоминаниям. Все уже так взрыто на этой роковой батарее, что разве только опытный глаз воина может распознать на ней где что было. При слабом освещении луны мы не дошли до того обрыва, откуда ворвался неприятель и не могли видеть ни траншей, ни Камчатского редута, от которого зависела участь Малахова. Не был взят приступом заветный курган сей, недоступный врагу! Напрасно хвалятся французы, отбитые на всех пунктах последнего кровопролитного штурма. Они захватили курган нечаянно и были бы выбиты опять горстью храбрых, одушевленных геройством Хрулева, если бы только было дозволено. Но это были бы напрасные жертвы, ради одной только славы: уже решено было оставить Севастополь. Неприятель не посмел однако идти вперед, он дал нам свободно выйти из города и перейти залив, на утлом мосту, в бурную погоду. Не лучшее ли это доказательство, что занятие Малахова ничтожно в сравнении отбитого повсюду приступа, хотя имя сие гремит в титуле французского вождя; это лишь суетная блестка для удовлетворения народного самолюбия!
Спросил я моего спутника: «Откуда название Малахова?» и он отвечал: «Был у нас шкипер, который местом своих потех избрал этот курган; туда часто посылали отыскивать хмельного и, по имени его, курган прозвался Малаховым». Не большая это слава, – подумал я, – французскому маршалу после одиннадцатимесячной осады Севастополя не от него заимствовать свой воинский титул. «Due de Malachoff!» это весьма громко, а в русском переводе, когда понимаешь значение слова, не очень-то звучно выходит: «Герцог Малахова».
Спутник мой, по свойственной ему скромности, едва проговорил, что сам он, в продолжение всей осады, начальствовал на батарее в Пересыпи, которая была на оконечности южной бухты, между 4-м бастионом и 3-м, или так называемым большим редантом; против сего реданта неудачно испытали англичане свои силы при начале осады. Тут просидел он безвыходно почти одиннадцать месяцев и вышел невредим; но никто не ценит такого подвига, потому что это дело было весьма обыкновенным во время сей беспримерной осады. Духовные вместе со светскими разделяли подвиг и привыкли засыпать под свист пуль и ядер, а бомбы делались предметом шуток для тех, которые ловко умели избегать их.
Не напрасно иностранцы всякого звания во множестве приезжают сюда посмотреть на развалины нашей Трои, ибо действительно такая война составляет эпоху, как и Троянская. Недавно приезжал сюда принц Жуанвильский, с сыном своим, прямо из Константинополя, и не польстился даже посмотреть на южный берег Крыма: это весьма понятно для военного человека. Теперь здесь все еще свежо в памяти, каждый матрос может служить живой летописью, в которой сам был действующим лицом. Каждому русскому, если только имеет возможность, сердечный долг должен внушать идти сюда посетить то место, где было пролито столько драгоценной крови для защиты отечества, доколе еще не изгладились воспоминания. С годами время возьмет свое и все сотрется с лица сего летописного участка родной земли.
От Скироса вдаль влекомый,
Поплывет Неоптолем;
Брег увидит незнакомый
И зеленый холм на нем.
Кормчик юноше укажет,
Полный думы, на курган –
«Вот Ахиллов гроб (он скажет);
Там вблизи был греков стан».
Вкруг уж пусто… смолкли бои;
Тихи Ксант и Симоис;
И уже на грудах Трои
Плющ и терние свились.
Обойдешь равнину брани…
Там, где ратовал Ахилл,
Уж стадятся робки лани
Вкруг оставленных могил.
Грустно возвращались мы с поля битвы, развлекая себя беседой от печальных дум. Товарищ мой рассказывал мне некоторые примечательные случаи минувшей осады. Достойно внимания, что одна из первых неприятельских бомб поразила в Севастополе француза, а последние добивали англичан. В самый
первый день осады, когда еще только началась канонада, приехал из Петербурга французский инженер нашей службы. Рано утром пошел он в морские казармы навестить одного из своих приятелей и застал его еще спящим; проснувшийся офицер вежливо предложил гостю место на диване, который служил ему постелью, а сам сел подле на стуле; в ту минуту начались выстрелы, а первая бомба разразилась над головой приезжего, участи коего подвергся бы сам хозяин, если бы менее был учтив; чудны дела Твои, Господи!
Спутник мне говорил, что много еще валяется начиненных бомб между развалин и надобно быть с ними очень осторожным, потому что бывали несчастные случаи. В прошлом году двое приезжих англичан вздумали пошутить над такой бомбой и заплатили жизнью за свою неуместную отвагу; бомбу разорвало и их убило на месте. Не есть ли это таинственное возмездие представителям сего неприязненного народа за все то зло, которое нанесли их соотечественники городу, уже беззащитному, во время перемирия, исказив сами его останки, пощаженные осадой? Над сими останками пришли еще поглумиться их туристы, и тут же, в самих доках, разоренных англичанами, обрели себе смерть! Мертвая по виду бомба и, вероятно, начиненная английским порохом, два года спустя после всех сих ужасных событий, таила в себе еще достаточно силы, чтобы поразить англичанина! Право, нельзя всегда приписывать случаю такие случайности.
Когда мы спустились опять в разоренные доки, чтобы перейти на другую сторону к ожидавшей нас лодке, луна, высоко уже поднявшаяся, полным светом осияла величественный остов морских казарм и все адмиралтейство. Легче было смотреть на развалины при обманчивом ее свете, ибо она, бледными своими лучами, достраивала разоренное. Трехъярусная колоссальная стена, облегавшая одну сторону срытой горы, с бесчисленными окнами, казалось, еще не испытала враждебной руки и готова была состязаться со временем, да и можно ли было здесь ожидать когда-либо иного состязателя? Казалось, обширная пристань Севастополя готова была опять принять в свои объятья родной ее флот, хотя и мало было судов на широких водах, но воображение дополняло желаемое; слышались голоса с обоих берегов корабельной бухты, и мне мечталось, что я опять плыву по тому же чудному заливу, как бывало за десять лет пред сим, посреди сокровищницы нашего флота, и что недавно бывшее никогда не бывало, или давно уже миновалось, и все опять в обновленной силе! Тот же спутник прежних радостных дней управлял рулем быстрой ладьи и, по его манию, стройно ударяли по водам длинные весла ловких гребцов, рассекая серебристую пену.
Мне хотелось забыть настоящее. Но когда опять вспомнил о минувшей славе сего единственного в мире залива и о нынешнем его запустении, слезы невольно канули из глаз, хотя и старался утаить их; молча, в тяжкой думе, переплыл я чудный залив. Мы причалили опять у Графской пристани; легкая ее колоннада красовалась как и прежде, когда не было места, где бы к ней причалить, от множества лодок, и весь залив исполнен был кораблей. Давно ли кажется? А теперь лишь зыблются на водах два-три парохода, и один лишь военный, начальника Черноморского флота. С глубоким вздохом взглянул я на северную сторону, где еще в полном величии возвышались форты Константина и Михаила, чтобы освежить душу хотя чем-либо несокрушенным, посреди сей груды обломков; но когда сквозь колоннаду Графской пристани мне мелькнули опять в белом саване, каким их окутала луна, все развалины Севастополя от подошвы до вершины холма, этот Акрополис смерти, иззубренный остов целого города, не мог я долее выносить плачевного зрелища и укрылся на ночь в свой убогий приют.
Обновление Херсонеса
День Святого Владимира ознаменовался духовным торжеством, каких давно не видал древний Херсонес, в память равноапостольного князя. Казалось, многострадальный Севастополь воспрянул временно из своих развалин, чтобы дохнуть из-под пепла бывалой жизнью. Все, что было духовенства не только в городе и окрестностях, но и на южном берегу, в пустынных скитах, созданных преосвященным Иннокентием в ущельях горной Тавриды, соединялось в Севастополе с двумя архимандритами монастырей Георгиевского и Успенского, что близ Бахчисарая. Епископ Херсонский Димитрий нарочно прибыл для торжества сего из Одессы. Собралось все морское начальство, с остатками морского экипажа под ружьем, со своими прославленными в битвах знаменами, которые развевались вместе с церковными хоругвями. Списки древних икон Корсунских, снятые в Московском соборе, древняя икона Великомученика из его обители и частица мощей равноапостольного князя, испрошенная также в Москве, предносимы были пресвитерами. Епископ, с животворящим крестом, следовал за сокровищем мощей и стройно выступил крестный ход из Николаевского собора, при многочисленном стечении народа всякого звания и исповедания, какое только мог представить на лице разоренный Севастополь.
Нестерпимый зной не воспрепятствовал усердию клира и граждан, хотя Херсонес отстоит за четыре версты от города. Еще не выходя из объема его развалин, при церкви Петропавловской, которая возникла уже после разорений, преосвященный Димитрий стал на возвышении и осенил народ святыней мощей Просветителя Руси. Несколько далее крестный ход выступил из свежих развалин Севастополя, между 5-м и 6-м бастионами, которые столь мужественно отразили врагов, и направился к иным многовековым развалинам Херсонеса. Расстояние времени как будто изгладилось между ними: всеобщее разрушение уравняло их годы, подобно тому как люди, подвигаясь к старости, не чувствуют уже между собой того различия лет, которое разительно было в более юном возрасте; здесь давно минувшее слилось с недавно отжившим, под одной грудой камней и пепла.
Не в силах будучи идти за крестным ходом, я предупредил его и не раскаялся в этом, потому что застал другое торжественное служение в самом Херсонесе. Строитель Евгений с двумя иеромонахами, с крестами и хоругвями, вышел также из своей убогой церкви Святого Владимира на каменный холм, складенный им пред развалинами древнего соборного храма и увенчанный высоким крестом: так совершилось освящение воды. Я стоял у подошвы холма, в самих развалинах; еще ясно обозначены были стены святилища и место алтаря, ознаменованное крестом. Умилительно было слышать молитвы освящения над тем местом, где некогда освящалась вода для крещения самого Владимира; показывают посреди храма углубление купели, в которой спала чешуя с очей новопросвещенного, как некогда у апостола Павла. Священнослужители спустились с холма, чтобы окропить останки храма и обойти с пением тропарей вокруг священных обломков, откуда воссияла нам заря нашего спасения.
Было предположение соорудить церковь во вкусе византийском на самих развалинах, совершенно того же размера, и план сего здания был уже утвержден; даже крестный ход назначен для того, чтобы торжественно заложить первый камень; но недавно отменили первоначальный план, чтобы не коснуться остатков бывшего святилища при копании фундамента. Теперь решено соорудить более обширный храм во имя равноапостольного князя и в нижнем его ярусе вместить неприкосновенно остатки древнего, устроив там особый придел: добрая мысль, если только осуществится. Странны судьбы Херсонеса! Сколько столетий уже тлеет он в развалинах! Камни его отчасти послужили для строения нового города, который также теперь в развалинах.
Уже несколько десятков лет производился сбор по всей России для сооружения храма в Херсонесе на память крещения Просветителя Руси, но собранные деньги получили внезапно иное назначение. Не знаю, почему представилось двум именитым двигателям сего края на суше и по водам князю Воронцову и адмиралу Лазареву, будто не довольно определена местность древнего Херсонеса, хотя, казалось, ясно обозначено основание соборного храма на бывшей городской площади, и целы доселе мраморные останки с разбитыми колоннами другого великолепного храма Святого Климента, ближе к морю; стоит еще и тот исторический холм, который насыпали херсониты во время осады, отгребая землю, наносимую осаждавшими к стенам для приступа; сохранилась даже и стена Херсонеса, определяющая местность бывшего Акрополиса.
Испрошено было повеление обратить всю собранную сумму на другой предполагаемый храм, также во имя Святого Владимира, но не в древнем Херсонесе, а в соседнем ему Севастополе. Адмирал Лазарев хотел соорудить храм со всевозможным великолепием, весь из мрамора, и уже стали выписывать из Италии мрамор, хотя тем не удовлетворилось бы благочестивое усердие жертвователей. Между тем само место древнего Херсонеса, где совершилось драгоценное событие нашего духовного просвещения, предназначено было для чумного госпиталя. Тогда бы не только совершенно истребились следы христианских храмов, которые теперь целы после неприятельского разгрома, но даже само место, в карантинной строгости, сделалось бы всегда недоступным для поклонников, которые бы захотели тут искать следы крещения святого князя, и это предположение уже готово было исполниться.
Нечаянно узнал я о том, при посещении Севастополя в 1847 году, на обратном пути моем из Грузии и ужаснулся. Немедленно написал я из Одессы князю наместнику в Тифлис, умоляя его пощадить место, столь священное для целой России, о достоверности коего не могло быть ни малейшего сомнения, ибо развалины Херсонеса сами о себе свидетельствуют. Я нарочно поехал в Николаев убедить в том же адмирала Лазарева и успел его склонить написать князю, что соглашается с моим мнением. Наместник со своей стороны вполне показал благородный свой характер, дав обещание не только сохранить неприкосновенным место, но и воздвигнуть на нем памятник Равноапостольному. Однако не смотря на то, собранные деньги оставались в пользу новой церкви Севастополя и, только после всех ужасов его разорения, обратились они к первобытной цели.
Между тем преосвященный Иннокентий, сделавшись архиепископом Херсонским, не оставил без внимания развалины Херсонеса и всего полуострова Таврического, ибо везде старался сохранить и обновить остатки древности. Подобно как в епархии Харьковской оставил он по себе память обновлением Святогорской обители, так и в Тавриде предпринял восстановить древние ее святилища, или, как он выражался, образовать из нее русский Афон, но у него не доставало людей и средств; однако он не унывал и употребил все, что было в его силах, чтобы осуществить свою мысль; по крайней мере, он положил зародыш будущим обителям на тех местах, где они существовали прежде, в живописных ущельях, или при целебных источниках, издавна освященных в памяти народной.
Прежде всего обновил он скит Успенский в ущелье Бахчисарая, как одно из первых святилищ греческих, только недавно опустевшее, и предназначил его быть начальной лаврой для всех будущих скитов. Он вызвал туда из лавры Киевской благочестивого архимандрита Поликарпа, который долгое время был начальником нашей миссии в Афинах и, по своей подвижнической жизни, совершенно приготовлен к такого рода деятельности. На реке Каче, недалеко от Бахчисарая, также в ущелье, и на источниках реки Альмы у подошвы Чатырдага, слышал Иннокентий, что существовали некогда церкви при целебных источниках Святой Анастасии и Святых Бессребреников и, посетив сию живописную местность, обновил разрушенную там святыню. Инкерманская скала, с остатками греческой крепости наверху горы и с древней церковью, иссеченной в утесах, привлекла его заботливое внимание, и он вызвал из запустения сие святилище. Но ближе всего лежал к его сердцу Херсонес, как место, прославленное крещением Руси, в лице ее князя; он поспешил испросить себе сии развалины и устроил там посреди пустыря близ остатков бывшего соборного храма, где крестился Владимир, малую церковь с кельей для иноков.
Нашелся и туда ревностный подвижник, из воинов донских, который, отслужив с честью царю и отечеству, решился посвятить себя Богу; он был благородного происхождения, в звании есаула. Преосвященный удержал его в Одессе, на пути в Иерусалим, и убедил заняться устройством святилища в Херсонесе, ибо везде умел находить людей способных, которых тщательно отыскивал. Так однажды, услышав в Херсоне, что уже многие годы спасается неведомый странник, в тяжких веригах, на пустынном острове, посреди тростников днепровских, сам поплыл туда и убедил его переселиться в Успенский скит.
Убогая церковь, поставленная на развалинах Херсонеса, разорена была во время осады, а ревностный ее блюститель, искавший спасения от неприятелей, с утварью церковной, в родной земле на Дону, при переправе через реку утонул. Преосвященный Иннокентий, посетив в последний раз Крым в минувшем году, заботился о восстановлении церкви Херсонеса и, усердием одного из граждан Севастопольских, вскоре опять она могла быть освящена; но уже сам Иннокентий лежал больным в Георгиевском монастыре, когда совершалось желаемое освящение. Тогда поставил он настоятелем будущей обители бывшего при нем иеромонаха Евгения, еще юного, но весьма ревностного и замечательного по своему происхождению. Отец его фон Экштейн бы при дворе короля шведского Густава IV, и после его падения должен был оставить свое отечество; он переселился в Ригу, женился там и вскоре умер. Вдова его, с трехлетним младенцем, переехала в Москву и приняла православие. Рано поступил в иноческое звание ее сын, по влечению сердца, и ему предстоит оправдать свое звание на том духовном поприще, которое столь неожиданно ему открылось. Много потрудился он в северной столице для обновления обители Херсонеса и испросил себе половину тех денег, которые были первоначально собраны для сего предмета; другая часть их предназначена для довершения церкви в Севастополе, во имя святого Владимира, в основании коей покоятся знаменитые наши адмиралы. Таким образом, по неисповедимым судьбам Божиим, возвратилось Херсонесу бывшее его достояние, взятое у него во время славы Севастополя, и он уже обновляется, когда еще дымятся свежие развалины бывшей сокровищницы нашего флота.
Уже крестный ход приближался к Карантинной бухте и передовые толпы народа начали подыматься на высоты Херсонеса; строитель Евгений готовился идти навстречу. Мы воспользовались кратким временем, чтобы осмотреть на берегу развалины Климентовой церкви, которой древнее великолепие явствует из самых обломков. Сохранилось основание стен и есть следы фресок на горнем месте; разбитые столбы лежат посредине храма и видно внутри его мраморное их основание, которое образует длинный четырехугольник; все святилище было украшено колоннами, наподобие древних базилик, и сохранились следы бывшего портика. До осады Севастополя многие колонны еще оставались на своих местах, другие лежали, опрокинутые временем, но пощаженные людьми; их истребили новейшие варвары и стерли в прах.
По изящности храма можно судить о том благоговении, которое питала христианская древность к памяти священномученика Климента, Папы Римского, сосланного сюда за исповедание имени Христова и, вероятно, пощаженного в Риме, только по родству с кесарями, ибо он был из той же именитой фамилии Флавией, которая дала многих великих мужей древней всемирной столице. Но святой Папа, там пощаженный, здесь подвергся мученической кончине и брошен был в море с мыса Херсонесского. Здесь, через восемь столетий, чудным образом обрел на дне морском священные его останки Просветитель славян, близкий нашему сердцу, святой Кирилл Философ с братом своим Мефодием, когда они были посланы из Царьграда для обращения хазар, и оставил часть мощей святого мученика, взяв с собой другую в Рим. Отселе перенес главу святого Климента и мощи ученика его Фива новопросвещенный Владимир в родной свой Киев, и это была первая святыня, которую получила себе в благословение просветившаяся христианством Русь.
Конечно, после сооружения храма во имя святого Владимира над местом его крещения первым долгом настоятеля Херсонесского будет обновить и сию древнюю базилику святого Климента, столь тесно связанную с началом нашего христианства с памятью Апостола славян Кирилла. Недалеко от нее, сохранились еще на берегу ступени бывшей пристани Херсонеса, где ступал некогда, на сию заветную для Руси землю, сам первозванный ее Апостол; обойдя вокруг всего Понта он пришел в Херсон для проповеди Христовой; отселе поднялся еще вверх по Днепру пророчески водрузить на горах киевских первый крест за тысячу лет до крещения Владимира. Вот сколько священных воспоминаний для нас в развалинах одного Херсонеса, а мы до сих пор оставались к ним равнодушными, упоенные славой Севастополя! Горькое разочарование обратило нас к сим священным началам.
Когда мы возвратились от развалин базилики Климентовой, крестный ход уже входил в убогую церковь святого Владимира, которая не могла вместить в себе столько народа; все богомольцы оставались вне ее, несмотря на духоту воздуха и палящее солнце. Епископ Димитрий совершил торжественно литургию после утомительного хода, и можно было подивиться его пастырской ревности. При входе с Евангелием Преосвященный поставил строителя Евгения игуменом и, должно сказать, что он вполне заслужил сию степень за свое усердие к обновлению падшего Херсонеса. Если бы не его голос, по видимому ничтожный, то не совершилось бы сие великое дело и, быть может, еще на многие годы оставался бы в развалинах священный храм, свидетель крещения нашего Просветителя, доколе бы совершенно не истребили его и время, и люди. Изумительно, как мог он сохраниться и доселе! Но сила Божия в немощи совершается, и усердие одного человека подвигло все высокое и священное на Руси к обновлению вековых развалин.
Инкерман и северная сторона
В тот же вечер просил я опять моего доброго спутника по архипелагу отвезти меня на своей быстрой гичке до Инкермана; по свойственной ему скромности, как бы не надеясь на свое знание местности бывших битв, пригласил он с нами одного опытного инженера, чтобы тот рассказал мне подробнее, где что происходило. Прежде, нежели углубиться в саму оконечность Севастопольского залива, миновали мы Павловскую батарею на мысу корабельной бухты, взорванную нами в день отступления. Тут была употреблена военная хитрость; на батарее находилось много раненых и потому сперва ее не коснулись; но опасаясь, чтобы неприятель, овладев ей, не стал вредить северному укреплению, испросили краткий срок для вывоза раненых и взорвали батарею.
По мере того как мы подвигались вдоль берега к устью Черной речки, нам представлялись, одна за другой, углублявшиеся балки: сперва Ушаковская, которая долго служила местом городских гульбищ, по своему саду ныне уже опустошенному, и Килен-балка, которая горько прославилась неудачной битвой Инкерманской, при своем верховье. Грустно подумать, что от ничтожной ошибки утрачена была лучшая минута для совершенного истребления врагов. Если бы войска наши пошли, как было предположено, по левую, а не по правую сторону балки, тогда не были бы они разрознены, и если бы те, которые шли к ним на помощь от Инкерманского моста не отклонились от указанной им высоты, бросившись на выстрелы, чтобы выручать своих, по духу русского солдата, то все англичане погибли бы в этот роковой для них день; но он обратился на нас самих всей тяжестью неудачной битвы.
От Килен-балки начинался тот ряд бастионов, мгновенно созданных кругом всей южной бухты, который увенчали Севастополь боевым венцом и обессмертился памятью его защитников, мученически здесь пострадавших; никогда не изгладится память сия, хотя бы и стерлись с лица земли упоенные кровью бастионы, которые теперь еще возвышаются вокруг многострадального города, как светлый венчик вокруг мученического лика, и между ними Малахов, как высший зубец сего чудного венца, господствует над всеми. Между Килен-балкой и Георгиевской построены были на высотах те знаменитые батареи, Селенгинская и Волынская, носившие имена своих строителей, которые, при начале осады, изумили неприятеля самой отважностью их нечаянного сооружения и, оттиснув его далеко, дали хоть на краткое время дохнуть свободнее мужественным защитникам Севастополя.
Вступив в устье речки Черной, поросшей тростниками, мы проехали под сводами Инкерманского моста, от которого, с такой надеждой и успехом, устремились войска наши на бой 25-го октября. Действительно, оплошность англичан была чрезвычайная, потому что они без выстрела допустили нас подняться на высоты Сапун-горы, откуда несколько пушек могли нас отразить; но здесь же и бедственно окончилась для нас битва, когда, в свою очередь и по ошибкам, которые можно почитать роковыми, потому что нельзя было даже их предполагать, опамятовались враги и, опрокинув войска наши, преследовали их до сего моста. В виду Инкермана, над каменоломнями, мне указали место, где бросился со скалы один мужественный юнкер, преследуемый неприятелями и разбился в прах, чтобы только не достаться в их руки. Я спросил о его имени – оно забыто. Сколько таких подвигов самоотвержения геройского во время осады Севастополя остались совершенно безызвестны, когда мы с детства привыкли изучать подвиги римские Коклеса и Сцеволы, за две тысячи пятьсот лет до нас бывшие, а то, что было в глазах наших, мы уже выбросили из памяти. Неужели никто не напишет подробную героическую историю осады Севастополя, со всеми ее блистательными подвигами? Такая обязанность лежит на очевидцах: это будет народная эпопея, наша Илиада над развалинами нашей Трои.
Красивый водопровод перекинут через глубокую балку в виду Инкермана и насквозь пробита была Сапун-гора, чтобы живая струя воды, зачерпнутая далеко в горах, текла в доки Севастополя. И что же? Рука новейших варваров не пощадила и сего громадного дела, достойного древних памятников римских, так как все строилось на исполинские размеры в Севастополе: разбит водопровод и завален пролом скалы и пресечена струя водная, а для чего? Одна только неистовая вражда руководила здесь истребителей, которые на каждом шагу ознаменовали свое варварство.
Вот, наконец, и живописные развалины Инкермана, с греческой башней и остатками укреплений на верху горы, ибо здесь было самостоятельное владение одного греческого державца из роду Комниных в дни славы Херсонеса и едва ли не кафедра митрополита Готфского; о том свидетельствует церковь, которая иссечена внутри скалы, пробитой насквозь для сообщения с вышгородом. Одиннадцать лет тому назад, при посещении Инкермана, я застал церковь сию в совершенном запустении; с тех пор она обновлена ревностью преосвященного Иннокентия, который испросил для нее малый участок земли под огород на берегу Черной реки, хотя место это вредно по своим лихорадкам, и устроил малый скиток для одного отшельника в этой скале. Мы не нашли иеромонаха в каменном его приюте; он был на празднике в Севастополе и еще не возвращался. Сторож, отставной матрос, открыл нам вход в пещерную церковь, указал в скале келью своего старца и поспешил зажечь свечи пред иконами, чтобы радушно встретить посетителей, довольно редких.
Признаюсь, надо было много иметь самоотвержения и любви к уединению, чтобы поселиться в таком безотрадном месте и к тому же болезненном, где церковная молитва не услаждается даже и в дни воскресные общением богомольцев, потому что все пусто вокруг, разве кто придет из каменоломень с противоположного берега. Дело иное, когда тут устроится хотя бы небольшое общежитие, но скоро ли это будет при недостатке средств и людей? Преосвященный Иннокентий, обновляя храм в сердце скалы, посвятил его памяти двух священномучеников римских, святых Пап Климента и Мартина, пострадавших в Херсоне, куда были они заточены в различные времена, в I-м и VIII-м столетии христианства; но Климент пострадал от языческого кесаря за исповедание Имени Христова, а Мартин – от императора Константа за то, что мужественно воспротивился его еретическому изложению веры, которое хотел распространить по Вселенской Церкви. Оба святителя долго трудились в каменоломнях инкерманских; быть может святой Папа Климент был и первым соорудителем иссеченной в скале церкви, и потому весьма прилично посвящена она памяти обеих священномучеников.
Я искал в ней той гробницы неведомого угодника Божия, с левой стороны алтаря, на которую впервые указал Иннокентий в одной из своих красноречивых бесед во время осады Севастополя (я упомянул о том в своем описании жития святых священномучеников Херсонских, месяц март). В статейном списке посольства, ходившего в Крым при царе Михаиле Феодоровиче, упоминается об обретении мощей одного неведомого святого, в скале Инкерманской, который, явившись во сне священнику русскому, исцелил болящего, но не открыл своего имени и не велел брать своих останков в Россию, обещая, в свое время, привести Русь в сие место, и вот чудно исполнилось его предсказание. Действительно с левой стороны есть закладенное в стене место сей могилы, где лежали и иные кости, но уже не осталось следов стенной живописи, о которой говорится в статейном списке; а то окно, из которого выбросил нечестивый татарин священные останки, обращено теперь в дверь на балкон; оттуда открывается живописный вид на всю долину, оживленную зеленью древесной; вдали едва виднеется море, которое некогда близко подходило к скале Инкерманской.
Уже солнце готово было спуститься за утесы и глубокое ущелье начинало покрываться тенью. Опасаясь вечерних испарений сей болезненной долины, мы поспешили к нашей лодке и спустились опять между тростников, которые служат зародышем лихорадки, в широкий залив Севастополя. Там мы дохнули свободно свежим воздухом моря, но сердце сжалось опять, при виде обступивших кругом развалин.
Поздно вечером посетил я Сталя, жившего на вершине холма Севастопольского и, возвращаясь от него в лунную ночь, мог окинуть взором все бедственное запустение города. При такой обширности развалин, разбросанных по всему холму и около его подошвы, кое-где мелькали только огоньки, и по этим огням можно было судить, где укрывается народонаселение после гибельной осады. Все прочее было – одни лишь пустыри или обломки, которые, вероятно, не скоро населятся, теперь особенно когда перенесена железная дорога на другую оконечность Крыма, в открытую пристань Феодосии. Многострадальный Севастополь, гордясь своими ранами, понесенными за отечество, чаял залечить их, когда бы потекла через него река торговли, но ему суждены одни лишь воинские подвиги.
Рано утром на другой день оставил я Севастополь, чтобы посетить Бахчисарай. На баркасе переплыл я широкий залив, чрез который перекинут был утлый мост длиной с версту в роковой день отступления, славного в полном смысле сего слова; все, что только можно было перенести человеческими силами во время одиннадцатимесячной осады, было перенесено и даже более, потому что свыше человеческих были подвиги и страдания осажденных. Но тот великолепный Николаевский форт, откуда начинался мост и где в последнее время осады помещалось все начальство разоренного города с остатком гарнизона, госпиталь и церковь, – эта священная сердцевина, где еще бился последний пульс умирающего, когда уже остывали оконечности разбитых членов, не существует более. Нами же был взорван форт, при оставлении города, и одинаковая участь постигла Александровский, на самом устье залива, который так славно отразил враждебный флот, когда, в первый день осады, надменно возмечтал он прорваться в львиную пасть Севастополя.
По мере того как мы приближались к северной стороне, баркас проходил мимо мачт потопленных судов; грустно было смотреть на этот мачтовый лес, выраставший из воды, который некогда с такой славой носился по водам. Пять кораблей и два фрегата затоплены были еще в первые дни осады, когда наступал неприятельский флот; остальные же суда и пароходы в последний день пред отступлением, чтобы не достаться в руки врагов: это единственные подводные камни сей чудной пристани, которой нет подобной в мире по ее безопасности и простору. Каково же было славным деятелям, которые сами сооружали все сии громоносные суда и летали на них по бурным волнам, оглашая громом оружия берега Черного моря и в Синопе воскрешая Чесму, каково было им, собственными руками, хоронить в родной пучине родные суда, дела рук своих, как они опустили потом в родную землю и тела своих витязей, водивших их на путь победы!
Ступив на берег, мы не пошли к северному укреплению, где сосредоточились все наши воинские силы после оставления Севастополя, и где еще целы укрепления, с двумя фортами Константина и Михаила, которые господствуют над входом в залив. Да послужит утешением морским витязям то, что не могли враги расторгнуть поставленные ими в устье преграды затопленных судов, которые и теперь с трудом извлекает со дна моря компания американская и что не взял на водах Севастополя флот иноземный. Если и погребен в родной пучине Черноморский флот наш, не попустил он однако, чтобы над его влажной могилой скользил надменный корабль ликующего врага. Одни русские соблюдают сию глубокую усыпальницу, как отделены волнами залива и могилы храбрых воинов наших от кладбищ иноземных. Но увы! Это целый город могил: два таких некрополиса возграждены не далеко один от другого на северной стороне, а кто сочтет тьмы тем их усопших?
Я устремился на высоту к одному из сих исполинских кладбищ, над коим теперь созидается погребальная церковь, благочестивым усердием одного из подвижников осады, который перешел последним плавучий мост в день отступления. Пирамидально будет здание сего храма и уже возведено гранитное основание. Надгробный памятник русских воинов, падших под стенами Казани при царе Иоанне, также в виде пирамиды с церковью внутри, вероятно, подал первую мысль и для внешнего вида севастопольского храма, и если, быть может, в первую минуту можно пожелать иного вида, скоро мирится с ним стесненное сердце на этом поле смерти. Мы привыкли видеть в пирамиде нечто погребальное и вместе исполинское, по древним колоссам Египта, а здесь все гласит о смерти и все было громадно. Но если пирамида носит на себе отпечаток языческих гробниц, то светлый крест, который венчает ее мрачную вершину, будет утешать нас мыслью о вечности.
У подошвы церковного холма встретился я с архитектором, который прискакал ко мне из временного городка, устроившегося на северной стороне после разорения Севастополя. Приятно было видеть его ревность, соединенную с любовью к искусству, и мы побеседовали о будущем устройстве храма. Он будет освящен во имя святителя Николая, как покровителя морских сил и ангела покойного Государя; но кроме сего особенный день может быть посвящен здесь поминовению православных воинов, ибо слишком много их легло тут костьми, за веру и отечество, и прилично отделить их память от общей памяти иных усопших. Если есть годовщина Мамаева побоища, под именем Дмитриевой субботы, почему же не быть Севастопольской, после столь беспримерного подвига?
Все русские князья мученики, начиная с Бориса и Глеба, должны быть изображены на стенах храма, под сенью родоначальника их, равноапостольного Владимира, просветившего Русь из Херсонеса. На западной же стене пусть будет написана, широкой кистью, утешительная картина общего воскресения мертвых, как она представилась Иезекиилю, когда пророк во дни пленения вавилонского, изведен был духом на поле, все усеянное костями человеческими, как и нынешние поля Севастополя, и был к нему Божий глас: «Сын человеч, оживут ли кости сии?» В ужасе отвечал он: «Господи Ты знаешь!» и снова глас: «Сын человеч, прорцы на кости сии и скажи им: кости сухия, услышьте слово Господне, се глаголет Адонай Господь костям сим: дух жизни вдохну Я в вас и дам вам жилы, и наведу на вас плоть и простру по вас кожу, и дам вам дух Мой, и оживете и узнаете, что Я Господь». И прорек Иезекииль, как заповедал ему Господь и, вместе с его глаголом, был глас в землетрясение: совокуплялись кости, кость к кости, каждая к своему суставу; смотрел он и явились на них жилы, и плоть росла, и простиралась сверху кожа, но в них не было духа. Тогда к нему был голос: «прорцы о духе, прореки сын человеческий и скажи духу: так глаголет Адонай Господь: от четырех ветров прииди дух и дохни на мертвых сих, да оживут». И он прорек, как заповедал ему Господь, и взошел в них дух жизни, ожили все и стали на ногах своих, – собор многий, великий, (Иез. 37). Так будет некогда и в сей юдоли плача!
Алупка
Если кто не видал в зеленой Гренаде той пресловутой Альгамбры, о которой так горько плакал последний ее властитель мавр Боабдиль, пусть плывет сюда, на южный берег Тавриды, полюбоваться Альгамброй русской, которая внезапно возникла как бы по волшебному манию на скалах Алупки. Тут найдет он все очарование мавританской: и прохладительный шум ее фонтанов, от знойной тяготы полудня, и негой дышащие розы, алой плетеницей обвившие порфировые ее террасы; тут те же страшные львы, свирепеющие из-под мрамора, и ряд стройных кипарисов, поставленных как бы на страже сего чудного создания Востока взамен той стройной дружины Абенсерагов, которая охраняла заветные палаты царей мавританских. Целая роща сих кипарисов манит вас укрыться от огненных лучей в глубокий мрак свой, проницаемый только просветами синего моря, которое виднеется сквозь темную их колоннаду. Нет этого великолепного моря в чуждой нам Альгамбре испанской, а здесь оно широко шумит у подножия русской и довершает ее очарование.
Море у ног ее гложет седой пеной брошенные ему на жертву утесы, но оно не смеет коснуться выспренних террас; роскошный сад сбегает от них к пучине, весь в лаврах и миртах; древесные магнолии открывают белую душистую чашу тропических своих цветов, из-за розовой купы цветущих олеандров: все здесь дышит Востоком и дальняя Индия приносит сюда ароматные свои дары. Но вот и дикий Север пришел оградить мшистыми скалами верхние сады своенравной Алупки, в которой столько же игры искусства, сколько и природы. Неуловимые стези подбегают под гранитные утесы, которые будто готовы обрушиться на смелого путника, доверяющегося их нависшей громаде; но его влечет туда живая струя, пробивающаяся из сердца камня, как слезы участия там, где их не ждешь и, говором усладительных вод, обвораживает посетителя сего нечаянного Нимфея. Выгляните из-под угрюмой скалы – и вас обвеют плетеницы плюща, зеленой сетью рассыпающиеся с камней, чтобы уловить пришельца и напомнить ему о чудной природе юга промежду финских великанов. На каждом шагу разнообразие, и богатейшая растительность нужных друг другу стран собрана здесь искусной рукой в одно великолепное целое. На альпийской лужайке, где катится горный ручей, величаво встает индийская магнолия в белой душистой своей короне, когда взоры скорее искали бы тут ливанского кедра, и вот наконец – потухший вулкан, на краю Вавилонских садов сих, поражает вас странным своим явлением посреди всей этой роскоши природы и искусства.
Если море служит внизу своей каймой для этой чудной картины, то сверху иной великолепный полог ее венчает: это гранитный хребет Яйлы. Сурово подымается он, тяжкой стопой своих скал, над веселой зеленью виноградных садов; вся растительность юга и всякая жизнь умирает под гранитной его пятой; одно лишь мертвое величие каменных исполинов высится в синеву эфира, от времени до времени повивая гордое чело свое восточной чалмой облаков. Два седых утеса, как бы две громадные башни, дело рук человеческих, еще более выспренней диадемой венчают сам гребень, и нужно было такое царственное знамение для довершения горней красы; казалось, люди и природа соединили здесь свои усилия, чтобы создать нечто чудное. Ай-Петри, т. е. святым камнем слывут сии утесы: от того ли, что представлялись они воображению народному, как бы горний алтарь, сооруженный на высшем темени гор самой природой дивному ее Творцу? Или быть может, как и на вершине Афона, тут стоял также рукотворенный храм, высоко вознесенный людьми, и был он посвящен святому апостолу Петру? Есть следы развалин у самого подножия двойной скалы Ай-Петри, там, где водружен теперь спасительный крест – падающих восстание! Не подвизался ли тут, в давние времена христианства Тавриды, какой-либо неведомый отшельник, ибо много было рассеяно пустынных скитов по ущельям горным? Но теперь одни лишь крылатые дети скалы, орлы, возносятся на сию недоступную вершину, доколе опять не обновятся здесь обветшавшие подвиги человеков, юностию орлей, по выражению псаломному.
Дворец Алупки, с одной стороны готический, с забралами рыцарских ворот и башен, поросших густым плющом, с другой весь в мавританском вкусе, как первый список Альгамбры, с ее фонтанами и мраморной лестницей Львова: это чудное в своем роде создание воображения, вместе западного и восточного, и роскошная прихоть великолепного вельможи. Едва ли мог соорудить что-либо подобное и сам великолепный князь Тавриды, первый деятель сих очарованных мест, на которые положил неизгладимую свою печать – второй по нем, князь наместник Кавказа, вместивший в свою беспримерную область две трети Черного поморья, от устья Дуная и до Требизонда. Не щадил он миллионов на свое любимое создание, которым услаждалось старческое сердце. Все его палаты иссечены из зеленого порфира, который добыт в потухшем вулкане; упругий мрамор уступал здесь игривой прихоти восточного вкуса и искусству резца, кружевными узорами оторочив Мавританские аркады.
Терраса Алупки единственна по красоте своей, с ее вечно шумящими фонтанами и шестью мраморными львами, лучшего резца Италии; они стерегут торжественный восход: двое величественно покоятся на низших ступенях и, в самом их отдыхе, есть нечто царственное и невольный страх их пробуждения; но вот уже пробудился царь зверей, на половине восхода, и грозно озирается на дерзнувших нарушить его покой; еще выше другие львы: они стоят с открытой пастью, подняв косматую гриву у входа Альгамбры, готовые, по первому манию своего владыки, растерзать всякого, кто дерзнет приблизиться к заветной арке, которая так привлекательна легким своим огибом и изяществом арабеск. Из глубины ее сияет золотыми буквами на древнем языке Востока исповедание единства Божия, и невольно останавливаешься пред столь торжественным входом, как бы на пороге святилища ислама: так разнообразны впечатления сей Альгамбры!
С обеих сторон входной аркой величественно простираются террасы; но влево пред роскошной теплицей, где между пальм шумит фонтан, и пред высокой залой пиршеств, терраса обратилась в благовонный цветник, уставный розами, а вправо – мраморные ступени сводят на другую чудную террасу, к библиотеке: здесь опять прихотливая сцена Востока, но уже не мавританского; это отрывок ханских чертогов Бахчисарая, с фонтаном Марии, воспетой нашим бессмертным поэтом. Прозрачная струя каплет из чаши в чашу по бледному лицу мрамора как бы крупные слезы, на память горьких слез пленницы ханской. Еще ниже грузинский сад, воспоминание тифлисской жизни владельца сего очарованного замка, ибо все здесь имеет свою мысль; виноградные лозы обвивают всю террасу и крупные их кисти висят с ее прозрачной сени. Еще ниже, у подножия террас, заросшая лаврами тропа нечаянно сводит в мрачный грот, где из-под громадной скалы бьет живой ключ – кастальский для тех, кто хочет здесь черпать вдохновения.
Но кто не видал в лунную ночь Алупки, тот не может постигнуть всех ее очарований. Надобно встретить на ее великолепных террасах полный месяц, когда багровым щитом выплывает он из темной пучины и постепенно осеребряется, восходя по воздушной стезе, доколе, во всю ширину моря, не заискрится огненный от него столб. Тогда, бледным лицом своим, взглянет он и на фантастические палаты Альгамбры, вызванный им из вечернего сумрака; они будто внезапно созданы обманчивыми его лучами, чтобы потешить пылкое воображение восточными грезами тысячи одной ночи – но только летней, лунной, упоительной ночи, подобно той, какой вы наслаждаетесь не в мечтательной Алупке. Тогда приглашаю вас в мавританскую алькову главного входа, которая так жадно глотает в свое глубокое устье серебристое сияние месяца. Оттуда, из полусвета и полумрака сей альковы, под живописными сводами ее арабеск, внимательно прислушайтесь к тихим звукам обворожительной ночи, вглядитесь в очарованную картину, которая вдвинулась сама собой в узорочный огиб легкой аркады.
Вам слышится неумолкаемый шум фонтанов, плещущих о мраморные их чаши, под шум которых бодрствуют верхние львы, живые в сиянии месяца, и дремлют другие на нижних ступенях, более удаленные от жизненных вод. Вы слышите в тишине ночи и другой шум широко волнующегося моря, как будто оно хочет исторгнуться из той необъятной чаши Черного поморья, в которую влила его, при начале создания, мощная десница Творца. Далеко море, но кажется близким обманутому взору: вот оно уже подступило к гранитному подножию террас и будто готово плеснуть чрез мраморные перила в те богатые вазы, которые по ним расставлены с купами благовонных цветов, как фимиамники Альгамбры.
Широко движется море, от края террас и до дальнего небосклона, но оно плавно и усыпительно для взоров, увлекаемых его тихим колебанием, как легкое движение колыбели с дремлющим в ней младенцем, когда качает ее нежная рука матери. Один лишь искрометный блеск лунного столба оживляет спящую пучину и пробуждает вас от тех неопределенных, неуловимых дум, которые невольно возбуждаются в душе безбрежностью стихии и безмолвием ночи.
Но посреди сей необъятности моря и неба, в которой исчезает всякое дело рук человеческих по своему ничтожеству, и все только гласит о вечности, – какой отрадный огонек блистает там, где земля как бы утопает в обеих стихиях и мнится – пред вами уже последний ее предел? Это огонек святого Феодора на мысе Ай-Тодор; там, где был никогда храм Стратилата, теперь спасительный маяк, оглашенный именем святого витязя. Путеводительной звездой светит он с земли, обуреваемым на волнах, когда потухают во мраке светила ночи и черными тучами застилается небо, а бездна кипит! Беспокойным взором ищет пловец на бесприютной пучине приветливого огонька, молитвенно обращаясь к небесному Стратилату, и ангел места сего, не покидающий, в самих развалинах, вверенную ему искони церковь на пустынном берегу, рукой человеческой зажигает спасительный свой светоч, которого всю сладость может только оценить бьющееся трепетом сердце обуреваемого пловца.
8 Августа 1858 г.
Приложения
Усадьба в Киеве
«не имамы бо пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13:14)
Помню, преосвященнейший Владыко, что сими словами Апостола Вы мне возразили, когда прошлой осенью, возвратясь из Киева, в первый раз я сообщил Вам о моем намерении приобрести себе усадьбу на Старом Киеве близ церкви Ангела моего Первозванного. И однако, хотя я вполне чувствую всю силу и истину апостольского слова, я уже обрел себе место стояния ногам моим на близкой моему сердцу вершине горы Андреевской. Осудите ли мою настойчивость? Нет, имейте снисхождение к тем причинам, которые побудили меня искать себе успокоения, если только оно может существовать на земле, здесь собственно, на месте для меня отрадном и священном. Я это пишу Вам в день торжества вашей лавры, из пустыни Межигорской, где мы также совершали память преподобного Сергия, который заменил вам здешних первоначальников Антония и Феодосия; он разделил с ними отчество иноков русских, усвоив себе весь север, как имя и благословение Печерских преимущественно на юге.
Но живописная сия пустыня в лесистом ущелье на крутом берегу Днепра, созданная самой природой для безмолвия иноческого, обращена теперь из обители в фаянсовую фабрику. До такого прозаического назначения низошло сие поэтическое место, где некогда процветала обитель! Она заменила Боголюбскую в Вышгороде, Белого Спаса, отколе перенесена была в первопрестольный собор чудотворная икона Богоматери, писанная Евангелистом. Соборная благолепная церковь, сооруженная знаменитым пострижеником бывшей обители, патриархом Иоакимом, и доныне празднует Преображению. Но таких священных воспоминаний не пощадила властная рука князя Таврического, опустошившая в одно время с Межигорьем на Днепре и Святые горы на Донце. Внезапно выгорела обитель и была упразднена, по нелюбви князя к запорожцам, коих почитала она своими ктиторами. Слава Богу, что обновились Святые горы после их семидесятилетнего запустения благочестием владельцев, тезоименитых опустошителю. Но Межигоры еще ждут обновлений и едва ли дождутся, потому что с возвращением их к первобытному назначению сопряжено слишком много материальных интересов и со стороны казны, и со стороны частных владельцев, взявших весьма недавно на аренду сие богатое фаянсовое заведение, хотя и без успеха; ибо, как сами они выражаются, «нет благословения на этом священном месте для чего-либо иного, кроме обители».
Так, по крайней мере, говорил мне нынешний владелец Межигорья, Барский, происходящий от того знаменитого поклонника палестинского, Плаки Григоровича Барского, который оставил нам столь любопытные записки своего многолетнего странствия (к сожалению, в недавнем пожаре киевском сгорели все неизданные еще планы и рисунки его путешествия, долго тлевшие на чердаке ветхого его дома, а некоторые рукописи розданы были для чтения, и надобно полагать, что пропали). Барский дал мне у себя приют для летнего купания, и я наслаждаюсь всей тишиной пустыни, за 20 верст от Киева, в отжившей обители, не обращая внимания на то, что теперь в ней делается позади меня. Взор мой обращен только на Днепр, над которым висит мой скромный домик, построенный на крайней террасе монастырской, где были настоятельские кельи.
Вправо и влево горы поросли лесом, там где прежде была фруктовые сады и виноградники. Обитель втеснилась со всеми своими зданиями и с двумя благолепными храмами в живописное удолье, давшее ей название Межигорья. Предо мной необозримые луга и пески Заднепровья, поросшие кустарником; вдали синеют леса, окаймляющие весь этот необъятный горизонт. Широк и величественен Днепр под Межигорьем, с одной стороны образуя глубокие заливы, с другой огибая крутой мыс Вышгорода. Днем и ночью оживлена сия великолепная картина. Вверх быстрой реки тяжело подымаются или вниз ее легко несутся на веслах и парусах разнообразные барки и тянутся длинные плоты с лесом; легкие челноки рыбаков скользят по водам, пересекая путь тяжелых судов; иногда дымятся и пароходы, и слышится на них песня. Ночью же, когда все вокруг замолкнет и утихает Днепровская жизнь, она еще искрится в легких огоньках, которые загораются во всех направлениях реки на причаливших к берегу плотах, или у рыбаков, ожидающих ранней зари для своего промысла, где-либо на лугу Заднепровья.
Вчера я долго любовался, пока из-за ближнего мыса, от Вышгорода, поднялась багровая луна и потом заструился ее серебристый столб во всю длину изгибающегося тут Днепра. Картина, достойная кисти Айвазовского! Я сидел на своей террасе и размышлял о минувшем Межигорья, мечтал и о его будущем: восстановится ли тут когда-либо обитель? или навсегда уже ей суждено оставаться тем, что есть? Неужели память Боголюбского и той святыни, которая отселе истекла в первопрестольный град, не подвигнет ничье сердце к обновлению святого места, и материальные выгоды или издержки остановят благонамеренных? А как бы тут можно было основать ученое братство для духовного просвещения!
Но, увлеченный мечтами, я совершенно отклонился от своего предмета, чтобы только объяснить, где я теперь, и в каком расположении духа пишу сии строки, себе в оправдание. Итак, скажу Вам, что не в прошлом лишь году родилось у меня желание водвориться в Киеве, но более, нежели за 30 лет пред сим, когда, отправляясь на военную службу, впервые посетил я Киев, в самом разгаре юного воображения, на которое сильно подействовали и древность, и святыня матери городов наших. Случилось и необыкновенное обстоятельство. Как теперь помню, это было весной, 3 мая, на память преподобного Феодосия; мне хотелось непременно поспеть в лавру к обедне, несмотря на сильную бурю и разлив Днепра. Молодость предприимчива: не слушая никаких советов, я доверился отваге двух рыбаков на малом челноке, который едва не опрокинула буря, так что мы должны были причалить к пустому острову и пережидать погоду; но, не дождавшись, опять пустились по бурным волнам, и нас принесло ко Крещатику. Тут против того места, где крестил детей своих равноапостольный князь, вышел я на берег и поспешил к памятнику благодарить Господа и Его угодника за свое спасение. Тогда еще мелькнула у меня мысль водвориться в Киеве, который поразил меня своим великолепием с противоположного берега и, во время бурного плаванья, меня будто манила к себе воздушная церковь моего Ангела Первозванного Апостола, на своем утесе, как бы на облаках.
С тех пор все более и более развивалась во мне мысль о водворении в Киеве всякий раз, когда я его проезжал, а это бывало часто в первые годы военной службы, до возращения из Иерусалима в 1830 году. И вот теперь лишь, чрез столько лет, суждено было исполниться давнему желанию, и мне выпало на жребии место у самой паперти церкви Апостола. Тринадцать лет я не был в Киеве после первого палестинского странствия и когда я опять посетил его, в 1843 году, протоиерей Андреевской церкви указывал мне с паперти окрестность, приглашая избрать где-либо место подле храма для усадьбы. Это было напечатано в моем описании Киева и многим стало известно мое намерение, так что киевляне, из числа духовных, уже почитали меня своим согражданином. Когда я вторично посетил Восток в 1849 и 1850 году, со мной была неразлучна мысль о храме Первозванного; я испросил на Святой горе, в ските пророка Илии, у русского игумена Паисия, частицу мощей апостольских, мизинец от левой его стопы, стоявшей на горах киевских в ту минуту как водружал он здесь первый крест, предрекая будущую славу сего места. Во все время моего странствия по святым местам носил я на груди заветную сию святыню, чтобы доставить сохранно в Киев и принесши, устроил для нее малый серебряный ковчег, предназначая оный в храм Первозванного. Но, по возникшему недоумению, святыня сия удержана была в лавре в течение восьми лет покойным митрополитом, и только в минувшем году, на праздник апостольский, исполнил мое желание его преемник. Это еще более привязало меня к храму Первозванного.
Спустя восемь лет я посетил опять Киев, в прошлом году, на обратном пути из Крыма, с той мыслью, чтобы напоследок решить: водвориться ли мне в нем или нет? ибо уже сокращаются годы. Приехав в день воскресный, накануне праздника Софийского, Рождества Богоматери, я поспешил к обедне в собор и, входя в оный, во время чтения Евангелия, помышлял сам в себе: что скажет мне слово евангельское? Утешительно было услышать слова сии: «Велия вера твоя, буди тебе якоже хощеши». День спустя, отслушав акафист Великомученице и литургию в Михайловской обители, пошел я в храм Первозванного и, возвращаясь оттоле уже утомленным, не намеревался взойти в Десятинную церковь, но увидев растворенные двери, взошел, чтобы поклониться гробу святого князя. Там совершенно нечаянно встретил меня местный священник вопросом, почему не исполняю давнего своего желания поселиться в Киеве, и на мой ответ, что все лучшие места уже разобраны, он вывел меня с погоста церковного в задние врата, на обнесенный древним валом пустырь, о котором я не имел ни малейшего понятия, как часто ни проезжал Киев; да и для его старожилов место сие было совершенно terra incognita, потому что с главной улицы заграждал его погост церковный, а от Андреевского спуска заслоняли безобразные кузницы, хотя оно в средине города, не далеко от присутственных мест, и господствует над Подолом. Лучше нельзя было приобрести места для городской усадьбы и вместе для уединенной виллы, которая может занять весь обширный холм Десятинный. Когда взошел я на древний вал, меня поразила чудная картина, открывшаяся во все стороны, и я подумал сам в себе: «Здесь или нигде».
«Место это вас ожидало», – сказал мне священник, видя мое радостное изумление, и действительно это так было; оно как будто мне предназначалось, потому что теперь только начали им любоваться, когда стало чрез меня известно; а до меня никто не обращал внимания на этот забытый, хотя и самый живописный участок старого Киева, до такой степени, что когда за два года пред сим место продавалось с аукциона за 2600 руб., не явилось покупщиков. И каких трудов стоило мне, в продолжение девяти месяцев, приобрести его из рук владельца Анненкова, сына строителя Десятинной церкви, которому принадлежали все лучшие места старого Киева; продавая их постепенно, он упорно держался за этот последний участок, и нелегко было освободить его от лежавших на нем запрещений; да и сам владелец не хотел продать его никому иному, как мне.
Не странно ли и то, что после стольких ожиданий я приобрел окончательно желаемое место в день Двенадцати апостолов (30 июня) как бы в утешительное свидетельство, что оба апостола, – и Андрей, и Иаков, мне присные, приняли меня под свое покровительство: (именем Первозванного запечатлен я в святом крещении, Иакову же празднуется в день моего рождения). Право, нельзя принимать сего за простой случай. Накануне просил я совершить торжественную всенощную, а в этот день была литургия с молебном Двенадцати апостолам в церкви Первозванного, которая совершенно напротив обновляемого мной дома. В нижнем ее ярусе устроена недавно теплая церковь праведных Захария и Елисаветы, что будет большим удобством для зимы. Десятинную же церковь, стоящую на приобретенном мной холме, предположено было обратить в теплый собор для служения митрополита, пока не будет сооружена великолепная церковь Равноапостольного на новых местах, близ университета. Десятинная празднует Рождеству Богородицы, как и святая София Киевская, и в ней есть два придела равноапостольного князя, где его гробница, и святителя Николая, коего священную базилику стараюсь я теперь восстановить из развалин в Мирах Ликийских, бывшей его кафедре. И вот он также принимает меня под свою сень и поможет мне основаться здесь на Старом городе, где с такой любовью призывается его имя.
В то самое время, как совершалась купчая в гражданской палате, посетили меня два архиерея: викарий Киевский Антоний и Болгарский Стефан, по титлу Лаодикийский, который приезжал со мной прощаться, возвращаясь на свою родину в Сербию. Преосвященный Антоний предложил мне ехать взглянуть на приобретенное мной место, которое ему никогда не случалось видеть; того же пожелал и Стефан, чтобы, как он говорил, проститься со мной на моей собственной земле. Я привел их на то место, где будет у меня усадьба, и просил благословить; оба епископа молитвенно осенили место. Не замечательно ли такое благословение в самую минуту приобретения, и часто ли повторяется такой случай? Когда я возвел их на древний вал времен Владимировых, обновленный Минихом, объемлющий всю вершину горы и который будет теперь служить виноградником, оба остановились от изумления при виде чудной панорамы, внезапно им открывшейся. Действительно, было чем полюбоваться, в какую сторону ни обращали свои взоры, и все это обнесено святыней храмов и запечатлено именами историческими: весь Старый Киев с одной стороны и весь Подол с другой, простертый у ног Андреевской горы и широкая Днепровская долина. Ближе всего, пред самыми глазами, храм Первозванного – это чудное произведение зодчества Растрелли – на своем отдельном утесе, как бы на пьедестале, на который восходят пятидесятью ступенями, подобно как на Капитолий Римский; он господствует над всей окрестностью и, можно сказать, над всей Русью, ибо здесь был водружен первый ее крест. Не напрасно священное предание предполагает здесь место стояния апостольского: каждый Киевлянин укажет вам на эту горнюю кафедру, отколе истекла первая проповедь христианства на родную землю. Нельзя было изобрести для заветного утеса ничего свойственнее той легкой архитектуры, которая вознесла на нем изящный храм сей: он как бы парит к небу стрельчатыми своими башнями, и едва касается земли.
Если принять храм сей за основную точку для обозрения панорамы киевской и постепенно обращаться от него к полудню, то в тесном промежутке церквей Первозванного и Десятинной (которая стоит также на первом плане картины), откроется несколько в отдалении церковь Трехсвятительская, старшая из киевских, основанная первоначально равноапостольным князем в честь своего ангела Василия Великого на холме низверженного Перуна. Рядом с ней златоверхая масса Михайловской обители сияет множеством своих куполов; крестовый ее храм святителя Николая, отдельно стоит от соборного во имя Архистратига, и опять отдельно величавая колокольня. Вправо от Десятинной проглядывает сквозь зелень садов здание присутственных мест, которое служит украшением Старому Киеву, с высокой сторожевой башней, и тут же видна убогая деревянная церковь Златоуста, предназначенная на новые места расширяющегося города. Далее, во всей своей красоте подымается священная митрополия святой Софии, матери церквей всея Руси, златоглавая, широко обнесенная белой оградой и зеленью своих садов. Величественный столп ее колокольни, как бы царственный скипетр, господствует над древним городом, соперничая с лаврской. Шестнадцать златых куполов сияют своими венцами вокруг высокой соборной главы, как бы сонм митроносных священнослужителей, благоговейно обступивших старейшего святителя пред Божиим престолом в час приношения бескровной жертвы.
Правее от святой Софии к западу начинаются сельские уже виды. Предместье киевское тянется по горе от бывшей львовской заставы к старой житомирской дороге, усаженной липами, и дальше за ним расстилаются поля и леса. Еще две церкви видны в нагорном предместье: Сретенская, или всех Скорбящих, вновь сооружаемая из камня, и Вознесенская над ущельем Кожемяк. Тут оканчиваются горные виды юго-западной стороны, и вы обращаетесь от Старого Киева к его подножию на север. Нельзя вообразить себе ничего живописнее тех ущелий и долин, которые открываются вашему взору. Пять обителей и более двадцати церквей пред вами, запечатленные летописными воспоминаниями, как и на Старом Киеве. Зеленое ущелье Кожемяк и так называемой Глубочицы, достойной своего названия, вниз по теченью ручья, глубоко врезалось в сердце киевских гор, все усеянное садами и белыми хижинами. В одном углу ущелья выглядывает из-за горы новая колокольня Воздвиженской церкви. Над живописным удольем красуется на одном из отрогов Андреевской горы златоглавая церковь Святой Троицы, обнесенная вниз по круче оградой. Это недавний отпрыск девичьей обители Флоровской, которая смиренно приникла к самому подножию горы, как стая робких голубиц под сень утеса. Рядом с горней церковью высится в глазах ваших еще одна, Всех Святых, на другой горе, отделенной глубоким оврагом; два сии гребня, увенчанные храмами, разделяют надвое ту глубокую долину, которая расстилается пред вами. Кладбище на темени горы, под сенью Всех Святых, запечатлено именем Щекавицы в память одного из трех братьев, баснословных основателей Киева: Кия, Щека и Хорова. Вдали, по направлению Щекавицы, на лесистых высотах, объемлющих днепровскую долину, виднеются главы древней обители Кирилловской, ныне обращенной в богадельню; там некогда игуменствовал святой Димитрий Ростовский и погребены его родители; у ската отдаленных высот еще две церкви крайних предместий киевских – Приорки и Куреневка и отрадная Киньгрусть, любимое место прогулок для киевлян, а за ней дремучий бор, который тянется до Вышгорода.
Если, оставив на время отдаленные виды, опустите взоры на Подол, лежащий у подножия той горы, на которой стоите, вы подивитесь множеству и благолепию храмов и обителей, собранных на одном тесном пространстве нижнего города; это свидетельствует о благочестии его жителей, которые не хотели уступить в оном Старому городу. Ближе всех девичья Флоровская обитель со многими ее церквами, а рядом с ней Петропавловская, бывшая прежде Доминиканским клястором, где ныне семинария, величавая по своему храму. Около них группа каменных церквей, достойных столицы, коих имена утомительно было бы исчислять. Между ними есть две: святителя Николая Доброго и Притиски, так названной от того, что обрушившимися камнями притиснут был хищник, который покусился влезть в ее окно. Имя святителя особенно чествуется в Киеве, и есть еще третий храм его – Набережный, на Подоле. В центре его, посреди обширной площади, величественно поднимается златоглавая Братская обитель, с высокой колокольней и благолепными зданиями своей академии, освежаемая древними липами, которые разрослись в ее заветной ограде и призывали под сень свою в течение многих лет все что только было славного и мудрого в духовном мире южной Руси. Братская обитель господствует здесь надо всем, и видно, что к ней как к жизненной сердцевине обращены все пути города; ибо она послужила ему и всей Руси твердой оградой православия против лести униатской и сохранила единство его с Востоком и, как бы во свидетельство сего единства, под сенью Братской обители смиренно проникло синайское подворье святой Екатерины. Около Братского монастыря сосредоточились и все лучшие здания Подола, его биржа и зала собраний. Далее опять раскинулись церкви по направлению набережной, которая украшается новыми зданиями и обставлена судами и пароходами, ибо тут вся торговая жизнь Киева.
Теперь, от всего шума и суеты житейской, которая кипит у ваших ног, дайте опять отдохнуть вашему взору на отрадном приволье днепровской долины, на зеленых лугах, которые так роскошно расстилаются к Вышгороду, в объеме лесистых гор. Еще струится по сим лугам летописная Почайна, кое-где образуя малые заводи; сюда и доселе приходят купаться жители города, для коих некогда послужила она спасительной купелью. Что ни шаг, то воспоминание! И вот, на самом краю заповедных лугов и дальнего небосклона – Вышгород, село Ольги, на одинокой горе своей, древний оплот великокняжеский, увенчанный церковью ныне весьма убогой, но где некогда стояла богатая обитель святых страстотерпцев Бориса и Глеба и почивали их нетленные телеса, утаенные опять в недра земные, когда восшумела над Русью буря монгольская.
Но лучшее украшение для этой чудной картины – сам Днепр, величаво стремящийся со всеми своими протоками по необъятной равнине черниговской, где только что поглотил он широкую Десну в свою бурную пучину. Это непрестанное движение вод, сверкающих лучами солнца по всему простору привольных лугов, придает необычайную жизнь всей картине, которую одушевляет собой могучий стражник, старец Днепр, один лишь идущий синими своими валами, когда все вокруг него неподвижно. С той выспренней точки, на которой вы стоите, взор ваш забегает далеко, далеко, как бы за синеву моря, к самой окраине небосклона, окаймленного темной полосой лесов, и вы будто парите полетом орлиным в этом воздушном пространстве, где реют одни лишь быстрые птицы; а между тем вы у себя, только за шаг от своего жилища, не где-либо в отдаленной пустыне или на высях горных. Взирая на сию очаровательную панораму, делается понятным, почему собственно это место избрали древние князья наши для Акрополиса или Детинца, и тут поставили свои терема и первоначальные храмы.
Не подумайте, чтобы я увлекался пристрастием собственности. Когда пригласил я митрополита посетить мою будущую усадьбу, и взошел он на древний вал, где некогда стояла угольная башня, – точно так же поразила взор его необычайная красота местности. Живописное ущелье Глубочицы с отрогами выдающихся вершин и днепровская долина напомнила ему виды Кахетии и горный Сигнах, ее столицу, над лесистыми ущельями Алазанской долины, – Сигнах, где покоится в древней своей церкви Просветительница Грузии святая Нина. И здесь, за несколько шагов от старого вала, почиют в Десятинной церкви равноапостольные Просветители наши Владимир и Ольга.
Вы скажете, быть может, что слишком дорого было заплатить семь тысяч за одну пустую землю с полуразвалившимся домом, где еще много надобно тратить на постройку. Но есть ли цена римскому Форуму, или нашему родному Кремлю, если бы кто хотел приобрести себе его участок? А эта вершина горы Андреевской для меня священнее форума, хотя, в нынешнем ее положении, приличествует ей новейшее итальянское название древнего римского торжища Campo Vaccino (поле коровье); теперь это любимое пастбище для соседнего стада и во всякое время дня вы увидите на вершине старого вала пасущихся лошадей или коров. Они доселе были единственными посетителями пустынного места, где предполагаю теперь посадить виноград и оплотом оградить его, по слову евангельской притчи, хотя и не смею назвать себя человеком домовитым. Поверьте, что я бы ее решился взять себе под усадьбу никакого иного места во всем Киеве, где их раздают даром, лишь бы строились.
Может ли быть что-либо утешительнее той мысли, что на этом холме стоял дом первых двух мучеников варяжских: Феодора и Иоанна, где теперь Десятинная церковь; что сюда же перенесена была с Аскольдовой могилы и святая Ольга, и без сомнения доселе покоится в древних основаниях храма, и что тут же в святилище гроб равноапостольного князя? Хотя и взята была честная его глава в лавру Киевскую, но сохранилась под спудом часть его мощей. Тут же погребены были и греческая царевна Анна, и внук его первый Изяслав и правнук Ростислав. Место, мне принадлежащее, вероятно, было занимаемо до сооружения митрополии Софийской усадьбами клириков Десятинной церкви и самих святителей, так как это был соборный храм, при начале нашего просвещения, близь княжеских теремов. Тут надобно искать и остатки монастыря Отча, откуда извлекла разъяренная чернь страстотерпца князя Игоря. И так это место ознаменовано было мученичеством не только первых варягов, но и схимника князя. Сколько раз молились тут и два страстотерпца – князья Борис и Глеб! Все это совершилось на Десятинном холме, коего большую часть я имел особенное счастье приобрести. Вся сия священная местность усеяна костьми и облита драгоценной кровью, ибо тут кипел самый жестокий бой во время страшной осады монгольской; сами врата, которыми здесь ворвались варвары, прослыло Батыевыми.
В Десятинной церкви заперлись последние, отчаянные защитники древнего Киева, оставленного своими князьями, и тут пали тысячами, задыхаясь от дыма, под мечами одолевающей орды. Детинец еще держался, как последний оплот со своим собором, когда уже святая София была в руках варваров; потому и обрушилось все их неистовство на Десятинную, и она разрушена была до основания, между тем как святая София уцелела по купола. Можно ли какими-либо деньгами заплатить за все сии воспоминания, за этот летописный участок града гробов наших отцев, по трогательному выражению Неемии, когда в час веселого пиршества плакал он, подавая чашу царю Ассирийскому, и просил отпустить его в Иерусалим. Нет, я не могу довольно возблагодарить Бога за то, что сподобил меня приобрести такой священный участок родной земли, посреди матери наших градов, чтобы мне тут успокоиться на преклонные годы и даже обрести себе последнее пристанище в ее недрах, в ограде Десятинной церкви.
Но и сам этот участок, хотя и приобретенный мной чрез куплю, не могу однако я иначе почитать, как за высочайше пожалованную мне землю и тем она мне драгоценней, как царский дар. Государю благоугодно было жаловать мне 5000 руб. на покупку избранного мной места; остальную же сумму, как вам известно, дополнил добрый старец, недавно усопший, который унес с собой в могилу, при незабвенной памяти его благодеяний, усвоенное ему издавна имя последнего боярина русского. С какой отеческой любовью принял он участие в моем деле за месяц до своей кончины, и уже почти на одре смертном трогательно писал ко мне, прося как бы себе в одолжение: «в знак давнишней нашей дружбы, не отказать принять от него недостающие деньги для осуществления моего предположения, ибо, в его болезненном положении, для него будет сердечным утешением знать, что еще при жизни своей он мог содействовать к успокоению моей будущности». И хотя смиренный старец убедительно просил, чтобы это обстоятельство совершенно осталось между нами, но чувство благодарности заставляет меня на сей раз ослушаться его скромности; ибо часто подобные заветы, внушаемые крайним смирением благочестивых людей, не были пополняемы после их кончины. Слава Богу, что я еще успел приехать в Москву с ним проститься и принять от него последнее благословение – родительские складни с иконой Утоления печали и, что весьма замечательно, в самый день празднования сей Богородичной иконы. Здесь, в пустынной церкви Межигорской, я совершил по нем память, в день его любимого праздника Влахернской Божией Матери, который я всегда имел обычай встречать у него в Подмосковной. И так Вы изволите видеть, что первоначальное основание моему водворению в Киеве положено не мной самим, а есть дар свыше, и только теперь собственно начнутся мои расходы на устроение моего жительства и для разведения сада, по мере сил; отрадно и то, что здесь будет у меня не столько городская усадьба, сколько вилла посреди города.
Вот еще замечательный для меня случай, оправдывающий русскую пословицу: «Кинь хлеб-соль назад, будет впереди». Знаете ли, кто мне здесь помощником? Диакон Андреевской церкви, которого я призрел в Петербурге на Вашем подворье; я выхлопотал ему дозволение от митрополита Григория и от Вас обирать в обеих столицах на церковь Первозванного, величественную по зодчеству, но весьма убогую по средствам, хотя с ней связано столь высокое воспоминание. По счастью этот диакон весьма опытен в постройках и печется о моей усадьбе, как бы о собственной, да и весь клир андреевский желает скорейшего обновления развалин пред их храмом. Видите ли, как мне все здесь благоприятствует и не указывает ли это на особенный промысел Божий для моего водворения в Киеве? Нельзя же не иметь себе под старость хотя малого уголка, где можно бы было успокоиться без опасения быть изгоняемым, как из наемных домов. Вы знаете, что я провел четыре лета в Останкине и надеялся всегда находить себе летний приют в этой прелестной Подмосковной, на пути в лавру; но и с сей мечтой пришлось расстаться.
Слыхал я также мнение многих из моих присных: можно ли, не на половине жизненной дороги, как начинает Данте свою великолепную поэму: «Nel mezzo del cammin di nostra vita», но уже на скате горы решаться оставить все свои связи и, бросив тот круг, в котором всегда обращался, переселиться как бы на чужбину, в далекий край, полурусский по обществу, где невольно почувствуешь свое одиночество? Это отчасти справедливо, но я переселяюсь в Киев из шумной столицы не для общества, хотя и здесь можно найти его, разумеется гораздо в меньших размерах, между светскими и духовными. Меня привлекают сюда святыня, воспоминания старины, красота природы и климат; прибавьте к этому и приятное чувство собственности: каждое дерево, мной посаженное у себя в саду, будет уже для меня дорого. Но прочны ли и те связи, которые начинаются с юношеских лет и стареются вместе с нами? Не сохраняются ли они более в одном воспоминании, когда буря житейская рассеет давних друзей по дальним краям беспредельной России, а обстоятельства служебные и узы семейные поневоле разрознят самых коротких приятелей? К тому же я не все вдруг брошу, ибо меня никто не гонит, но постепенно буду водворяться в Киеве, по мере устройства своей усадьбы: только надобно это сделать вовремя, еще при силах.
Никогда не забуду замечательных слов почтенного старца, князя Александра Николаевича Голицына в минуту нашего прощанья, когда он уже в глубокой старости переселялся в Крым: «Если вы когда-либо вздумаете также расстаться со столицей, чтобы где-либо успокоиться, сделайте это пораньше, пока вы еще в силах, и не следуйте моему примеру. Подумайте, каково для меня прощаться заживо с каждым, уже на веки, ибо все подходят ко мне, как к лежащему на столе покойнику, зная, что никогда более со мной не увидятся; подумайте, каково такое чувство для меня!» Действительно, прощанье сие расстроило князя до такой степени, что зрение его совершенно ослабело. Памятуя сии слова и я начинаю заблаговременно устроять себе тихое пристанище в Киеве, где надеюсь, что не расстроит его какая-либо житейская буря; действую постепенно, чтобы не вдруг расстаться со всем тем, что было близким моему сердцу в обеих столицах. Вот, преосвященнейший Владыко, мое оправдание пред Вами. Политического поприща, как Вам известно, я никогда не искал, а духовно-литературное могу продолжать и здесь, если Бог поможет, и когда совсем устроюсь, быть может, предприму историю патриарха Никона, для которой давно собираю материалы. И так прошу святых молитв Ваших и благословения на созидаемое мной жилище в Киеве, под сенью ангела моего Первозванного и равноапостольного князя Владимира и преподобных Печерских, чтобы и сюда распространилось на меня, из великой вашей лавры, благословение преподобного Сергия и святителей Московских, бывших вместе и Киевскими.
Так пространно письмо мое, что, начав писать его в день Вашего лаврского праздника, оканчиваю после дня памяти равноапостольного князя. В течение сего времени, здешняя лавра торжествовала память своего первоначальника Антония, и я имел утешение молиться в его пещере, во время всенощной и литургии. Умилительно было каждое слово церковных песней о жительстве его в пещере; слова сии отражались и в своде той подземной келии, где он обитал, и в сердце молящегося внутри пещеры. За праздником преподобного Печерского последовали в Десятинной церкви три, уже присных мне по близости моего жилища: святой Ольги, мучеников Варяжских на другой день, и Равноапостольного Владимира. Светло праздновали Ольгу и Владимира в храме, где они почивают, хотя и под спудом, на высоте матери градов богоспасаемого Киева, и я пожелал, в день святого Владимира, положить основание моему скромному дому, у подножия его храма. Случилось вовсе для меня неожиданно, что на молебне для освящения места и дома участвовали приглашенные на праздник представители древнейшей святыни киевской, с местным иереем Десятинной: наместник Михайловской обители, протоиерей от Трех святителей, самой первой церкви, сооруженной на перуновом требище, и благочинный от Андрея Первозванного. После ранней обедни в приделе святого Владимира от самого его гроба мы пошли крестным ходом чрез мою землю во всю ее длину на то место, где обновляется для меня дом в угодье между двух церквей: Первозванного и Десятинной, и тут совершились водосвятие и закладка. Священнослужители были во владимирских ризах с орденскими на них крестами, что было весьма благолепно; мы несли три иконы трехпридельного Десятинного храма, и таким образом Святитель Мирликийский присутствовал при благословении моего нового жительства древним своим ликом. Я молился ему, чтобы устроил оное здесь, как я стараюсь восстановить созданную им митрополию Сион, в бывшей его кафедре. Не слишком ли дерзновенна такая молитва? Мне кажется, однако, что если молишься с теплой верой в простоте сердца, обращаясь к человеку Божию, как бы к присному нам по вере и любви, то и такая молитва доступна, хотя и от недостойных уст.
Межигорье. 5 июля1859 года.
Символика Софийского собора
Вам угодно было поручать мне, при моем отъезд в Киев, составить для В. С. объяснение символики Софийского собора, разумея только мозаику и древние фрески времен ярославовых, ибо новейшие не заключают в себе особого символического смысла. Хотя довольно трудно, после обновления собора, отличить старое от нового, и много древних фресок перемешано с новейшими, чрез произвольное наименование неизвестных ликов: однако я постараюсь, сколько могу, изложить пред вами мои мысли по сему предмету, которые не смею выдавать за что-либо положительное. Скажу вообще, какое впечатление производит на сердце мое древний, чудный собор сей по сравнению с Цареградским, который также я имел случай видеть.
Отрадно молиться в родном святилище Киева; утешительно думать, что оно есть единственное на Руси, в котором, от самого начала нашего христианства, молилось все, что только было святого и великого в отечестве нашем, начиная от святителей и князей. Чудотворцы московские: Петр, Алексий, Иона, Феогност, Киприан и Фотий, совершали священнодействие в Софийском соборе Киевском, коего стены уцелели и после запустения татарского, тогда как Успенский собор первопрестольной столицы, куда перенесена была первосвятительская кафедра, и где доныне почиют нетленно мощи святителей, сооружен быль вновь, уже после их блаженного преставления. Если только вспомнить, что под сими священными сводами, устоявшими против бури времен, почиют великий основатель собора Ярослав и величайший из его преемников Мономах, и что несокрушимый храм сей был свидетелем славнейших событий земли русской до монгольской эпохи: то невольный восторг овладевает сердцем, при первом шаге внутрь заветного святилища, которое напоминает нам начало нашего просвещения в Царьграде.
Если, однако, говорить беспристрастно, то кроме имени и значения первенствующей кафедры, нет никакого сходства между Киевской и Цареградской Софией: до такой степени они разнствуют по своим размерам, по внутреннему расположению и по самому зодчеству; стоит только взглянуть на их размеры, чтобы убедиться в этой истине. Наша митрополия слишком мала в сравнении с Византийской патриархией и так мало носит на себе ее отпечаток, что нельзя даже уподоблять одну другой. Но, не смотря на такое несходство, они невольно роднятся в нашем воображении, ибо Святая София стояла у нас во главе Церкви всея Руси, как и София Царьграда во главе Вселенской, и нам утешительно думать, что Церковь Восточная отразилась, как бы в чистом зерцале, в матери церквей наших. Вот почему так близко нашему сердцу имя Святой Софии, которое встречаем в древнейших городах русских; мы привыкли с детства при этом родственном названии соборных храмов наших искать в них и сам образ того первобытного святилища, из коего пролилась благодатным потоком на всю Россию вера Христова. Святая София имеет для нас то же значение, какое имеет для Грузии святой Сион, ибо там сионами преимущественно назывались соборные храмы, по воспоминанию матери всех церквей Слова, как писано в псалмах: «Мати Сион, глаголет человек».
Так как архитектура церковная значительно изменилась на Востоке в течение пяти веков от основания Цареградской Софии в VI столетии до построения Киевской в XI, то должно предполагать, что образцом для нее послужила еще какая-либо из позднейших церквей греческой столицы, менее огромная по своим размерам, хотя и усвоилось ей имя древней патриархии. Чрезвычайную между ними разность составляет уже сам купол, который, как обширный щит, осеняет всю середину квадратного здания Софии Цареградской, тогда как в Киевской главный купол тесен и возвышен, а четыре малых, по сторонам его, дают новому храму позднейший вид византийских пятиглавых соборов. Устройство верхних галерей, необходимых в древности для помещения женщин, имело бы довольно сходства с образцом; но в Киеве хоры сии выступают крестообразно внутрь храма, тогда как в Царьграде они образуют правильный четырехугольник. Одно только углубление горнего места совершенно сходно в обоих храмах; но весь алтарь Киевский стеснен между двумя первыми столбами, поддерживающими купол, тогда как в Византийской Софии алтарь широко выдавался вперед, ибо там четыре основных столба, осеняемых куполом, стоят посреди храма.
Иконостас в цареградском соборе состоял из двенадцати серебряных столбов, с богатыми завесами, которые закрывали святилище от взора мирян. В Киевском соборе едва ли можно предполагать подобное устройство иконостаса, ибо, в IX веке, их стали значительно возвышать, вследствие гонений иконоборства: сперва иконоборцы стали приподымать иконы для недопущения к ним людей благоговейных, а потом и сами православные, восстановив первый ряд местных, чествуемых ими икон, пожелали сохранить и верхние ярусы, к которым уже привыкли взоры. Со временем им усвоилось символическое значение трех различных периодов Церкви: патриархальной до закона, ветхозаветной и благодатной Нового Завета. Но во всяком случае, если иконостас Киевской Софии и не состоял первоначально из одних колонн и завес, по образцу византийскому, с расставленными по столбам иконами, то без сомнения был гораздо ниже, для того, чтобы не закрывать великолепных мозаик над горним местом и на боковых арках, так как изображения сии заменяла нынешние образа иконостаса.
Есть еще одна особенность Святой Софии Византийской, в сравнении с Киевской: в Византийской был один престол для целого собора, вероятно по строгой мысли о единстве и неповторяемости литургии в одном И том же храме, как и доселе она не повторяется на одном престоле во всей Восточной Церкви, тогда как это единство божественной службы утрачено на Западе. Только на хорах, в самой их оконечности, как бы вне собора, в юго-западном его углу, отделенном стеной от верхней галереи, существовал малый придел для приобщения женщин, не имевших обычая входить в сам храм, и без сомнения придел этот был устроен уже в позднейшие времена для царственных особ. Напротив того в Киеве, кроме главного престола, существовало еще, со времени основания храма, два придела, наряду с соборным алтарем, от которого отделялись они жертвенником и диакониконом. Один из них был посвящен великомученику Георгию, Ангелу великого князя, ктитора Софийского, а другой Архистратигу Михаилу, как начальнику небесных сил и особенному покровителю Киева, в ознаменование чего изображение его находится и в гербе города. Были, вероятно, и другие приделы на сенях, во имя Первозванного Апостола и святителя Николая, хотя и не в таком множестве, как ныне, ибо их считают до семнадцати. В Цареградской Софии устроены были с западной стороны два притвора для оглашенных и кающихся; в Киевской же от самого начала не существовало сих притворов; потому быть может, что уже не столь строго выполнялись канонические правила относительно кающихся и менее было оглашаемых. Но кругом всего собора, с трех сторон, кроме алтарной, доселе сохранились крытые галереи между столбов, где вероятно совершались крестные ходы, как это и доселе постоянно бывает в Иерусалиме. В позднейшее время пристроены митрополитом Петром (Могилой) , обновителем храма Софийского, еще два притвора с северной и южной стороны, уже для прочности обветшавших стен, и в сих притворах, внизу и наверху, устроены также престолы.
Если вам угодно обнять, одним взглядом, всю внутреннюю красоту родной нашей Софии и разгадать всю ее символику, взойдите на западные хоры, и оттуда погрузите взор ваш во глубину храма, до самой окраины горнего места: тогда еще более пожалеете о высоте иконостаса, несоответствующей ныне первоначальному его устройству, хотя он и был понижен на один ярус при обновлении собора, но все еще закрывает отчасти мозаики. Полюбуйтесь оттуда крестообразной формой церкви, очертанной с трех сторон, кроме алтарной, двойными и тройными арками в два яруса, с остатками мраморных колонн. Углубите взоры и мысли внутрь святилища, горнее место которого служит как бы нормой церковного корабля сего, и вы будете поражены величием восточной нерушимой его стены, еще украшенной древними мозаиками; вы подивитесь устройству тройных арок, углубляющихся одна за другой над горним местом; они образуют как бы мозаические рамы, которые окаймляют колоссальную икону Матери Божией в самом углублении алтарного полусвода. Все это в высшей степени изящно и премудро расположено; поистине здесь «Премудрость создала себе дом», по выражению Книги Притчей. Теперь вникнем в таинственный смысл самих мозаик и фресок, исполненных глубокой символики, при всей строгости священных преданий.
Что прежде всего представляется вашему взору, из-под венца главного купола, наполненного ангельскими ликами? Это мозаический образ Господа Эммануила, в самом ключе основной арки, над иконостасом. Эммануил, т. е. с нами Бог, означает снисхождение к нам Сына Божия в образе Сына Человеческого. В обоих углах сей восточной арки, вы еще видите остатки мозаики, изображавшей двух Евангелистов: Иоанна и Матвея, которые возвещают, один небесное, а другой земное происхождение Эммануила, и в их раскрытых книгах начало их благовестия. Один пишет: «в начале бе Слово, и Слово бе к Богу и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу»; а другой: «книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». На противоположной арке два других Евангелиста, из коих Марк совершенно сохранился мозаикой. В Цареградской Софии шестокрылатые серафимы заменяют Евангелистов, по и сие не без высокого значения: пророк Иезекииль созерцал, во дни пленения, таинственные образы животных шестокрылатых, многоочитых, с четырьмя лицами, орла, тельца, льва и человека, которые даны символами Евангелистам. Он видел их на пламенных колесах, возвышающихся от земли и идущих во все страны, куда были обращены их лики, что знаменовало Вселенскую проповедь, и потому, быть может, символические серафимы заменили Евангелистов в цареградском храме Премудрости Божией.
Далее внутрь алтаря, на второй арке, образующей полусвод горнего места, под самым ликом Эммануила, вы видите другую икону мозаическую Спасителя, называемую Деисус, с двумя предстоящими: Богоматерью и Предтечей; все три лика в трех кругах. Это уже более присное человечеству изображение Господа славы, не только как Эммануила, с нами сущего Бога, но и окруженного родственными ему ликами Божией Матери и великого Предтечи, в наклонном пред ним молитвенном положении, что выражается самим названием Деисуса, от греческого слова «молитва». Тут уже небесная слава Эммануила представляется доступной нам, за коих пострадал Он, во всем уподобившись братии своей, по словам Апостола: «Сам искушен быв, может и искушаемым помощи» (Евр. 2:18). Под сей второй аркой, в полусводе горнего места, представляется взорам сама Предстательница рода христианского. Она стоит на твердом камене заповедей Господних, с воздетыми к Нему руками, осеняя мир Своим покровом, на коем сияют три звезды.
Почему же сей образ Богоматери, отовсюду видимый, по самой своей колоссальности, господствует над всеми прочими, тогда как название Святой Софии относится не к Матери Божией, а к самому Господу Иисусу, воплощенному Слову и Премудрости Божией? Потому что здесь хотели соорудить дом Премудрости Божией, а Матерь Божия послужила сим домом, в который вселилось Слово. Она была, по выражению церковному, «освященным градом Божиим и селением Вышнего» и оттого к Ней относится здесь греческая надпись вокруг арки горнего места: «Бог посреди ея и не подвижится, поможет ей Бог утро за утра» (Пс. 45). В цареградском храме Матерь Божия представлена с предвечным Младенцем на лоне, и с двумя архангелами по сторонам, как Матерь воплотившегося Слова и Премудрости Божией; здесь же держались одного лишь таинственного смысла дома Премудрости, выражаемого чрез лице Пресвятой Девы, и храмовым праздником служит рождество ее, т. е. само созидание на земле дома Божия, тогда как в Новгородской Софии празднуется ее успение, т. е. преложение земной сей храмины в небесную. Вероятно так было в Царьграде, если только не совершалась там, по древнему обычаю, одна лишь память обновления вместо храмового праздника, как мы это видим в Иерусалиме, в храме Воскресения. Есть предание в Киеве, что и Десятинная церковь, ныне празднующая также Рождество Богоматери, праздновала первоначально ее собору, на другой день Рождества Христова, так как существует обычай в православной церкви совершать на другой день главного праздника память виновника сего торжества: так, например, Святому Духу собственно празднуется на другой день Его сошествия на апостолов в Пятидесятницу, и Предтечи на другой день Богоявления, и Архангелу после Благовещений.
Замечательны символические изображения иконы Премудрости в Киеве и Новгороде, но едва ли не древнее Новгородская; ибо там никогда не прекращалось богослужение в храме со времени его создания, тогда как Киевский собор оставался многие годы в совершенном запустении, и в это время утрачена была древняя подлинная икона; она заменена новейшей, более в духе богословском, нежели символическом. Матерь Божия, с Божественным Младенцем на руках, представлена в храме, на семи ступенях, из коих каждая выражает какую-либо богословскую добродетель: веру, надежду, любовь и проч.; она в лучах солнца, и стоит на луне. По сторонам ее на ступенях стоят с правой стороны четыре великих пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль, с храмом в руках, и Даниил, а с левой: Moисей со скрижалями, Аарон, с жезлом расцветшим, и Давид Богоотец с псалтырью; над семью столбами храма сияет лик Господа Саваофа, с семью архангелами, и надпись греческая: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь». И так здесь название Святой Софии относится как бы прямо к лицу Богоматери, хотя и есть знамение Божественного Младенца на лоне ее. В Новгороде, напротив, символика гораздо более соответствует византийскому типу, и сам смысл ее изобличает подлинник. Сам Господь, Слово и Премудрость Отчая, по слову пророка Исаии, представлен в образе Ангела великого совета, восседающим на престоле, который утвержден на семи столпах и на камне; а для того, чтобы не усомнились, что это действительно сам Господь ангелов, а не Ангел, то над главой Сидящего виден малый лик Эммануила, и еще выше Евангелие, раскрытое на алтаре, как истое слово Божие, пред коим преклоняются Ангелы. У Исаии сказано (Ис. 9:6): «Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, и нарицается имя Его: велика Совета, Ангела, Чуден, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго века». Посему и олицетворена таким образом Премудрость, а по сторонам ее стоят послужившие ей ближайшими на земле орудиями: Матерь Божия, со знамением Предвечного Младенца в лоне своем, и Предтеча, стоявший на грани обоих заветов.
Ниже мозаического изображения Матери Божией, также мозаикой, представляется во всю широту горнего места символическое изображение совершения божественной литургии, (а не икона Тайной вечери, как предполагают некоторые). Посредине стоит трапеза, украшенная богатым покровом, с сенью на трех столбах; на трапезе четырехконечный крест (какое обличение для суемудрствующих!), дискос, звездица и копье, т. е. все принадлежности, необходимые для совершения литургии. С обеих сторон сени стоят два ангела, в белых хитонах, держащие золотые рапиды, представляя собой служение диаконов при святой трапезе. У передних ее углов, и слева и справа, два изображения Господа Иисуса Христа, в золотом хитоне и голубой хламиде, совершенно сходные между собой. Господь подает с левой стороны, обеими руками, святой хлеб, – пречистое тело Свое, подходящим к нему благоговейно шести апостолам, в белых хитонах, с согбенными или простертыми руками, по мере их приближения к трапезе: так и священное действие преподавания тела Христова пресвитерам из рук епископа происходит с левой стороны престола. А с правой – Господь преподает Божественную чашу другим шести апостолам, столь же благоговейно подходящим; так с правой же стороны, по чину церковному, преподается чаша священнослужителям. Но, быть может, спросят, почему же два лика Спасителя, а не один? Изображения сии свидетельствуют, как должно совершаться по древнему чину божественное приобщение под двумя видами хлеба и вина, неизменное у нас и доселе, тогда как у римлян нарушено священное предание; у них не только все миряне лишены святой чаши, но даже, при соборном служении нескольких иереев, пользуется ей один лишь совершитель таинства; прочие же остаются только зрителями, хотя и предстоят алтарю. Эго повторяется и при торжественном служении папском! Таким образом утрачено само значение обедни, как общественного приобщения вечери Христовой. У нас же утешительно видеть во время архиерейского служения самое точное повторение мозаической картины Софийского алтаря, в чине приобщения священнослужителей от руки святителя. Мозаика сия служит доселе поучительным напоминовением для приобщающихся внутри алтаря (а прежде, когда иконостас был ниже, служила тем же и для приобщавшихся вне алтаря мирян). Как видно, такие изображения были необходимым условием всякого соборного храма, ибо мы видим доселе такую же мозаику и на горнем месте Михайловской обители. Весьма вероятно, что от сего произошел позднее, когда высокие иконостасы начали закрывать горнее место, обычай ставать над Царскими вратами икону Тайной вечери.
Греческая надпись, во всю ширину горнего места, над символической картиной, повторяет нам подлинные слова самого Господа о необходимом приобщении не только Божественного Его тела, но и честной крови, и обличает отступившим от сего священного предания: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пийте от нея вcи, сия есть кровь Моя новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов». Взирая на сие мозаическое изображение, невольно возблагодаришь Господа, даровавшего нам счастье принадлежать к православной Церкви, столь свято соблюдшей все священные уставы христианской древности. Когда великий Ярослав вызывал в XI веке в Киев иконописцев греческих для украшения мозаикой созидаемой им Святой Софии, еще не существовало в латинской церкви сего нововведения, т. е. отнятия чаши у мирян и даже у священнослужителей, кроме старшего, при совершении таинства. Начинался только спор между Востоком и Западом об опресноках, и один из первых митрополитов наших, Иоанн, обличил обычай латинский, которому могла бы служат обличением и сия мозаическая икона: ибо хлеб, а не опресноки, держит в руках Господь, и не только слова его, но и само действие повторяется на иконе, чрез приобщение под двумя видами. Вот сколько исторической истины и догматики в мозаиках Софийских!
Изящная полоса мозаических арабесков отделяет сию картину литургии, которая занимает весь второй ярус над горним местом от нижнего яруса, наполненного ликами святительскими, которые уцелели в мозаике только до пояса и дописаны с низу. И здесь опять кроется глубокая мысль: сонм святителей торжествующей на небесах Церкви как бы видимо сослужительствует воинствующей на земле Церкви при совершении божественной литургии. В расположении сих ликов столь же строгое соблюдение древнего чина, который может служить для нас утверждением в истине предания Православной Церкви и вместе с тем обличением для Рима. Три продолговатых окна (несколько расширенных впоследствии) над горним местом, знаменуют свет Богопознания, от Пресвятой Троицы исходящий и с высоты святительской кафедры проливаемый. Не сохранились мозаические изображения между сих окон и весьма странно были написаны тут, при обновлении собора; два святителя Киевские Петр и Алексий, как предстоятели своей паствы, на том основании, что тут уцелела одна мозаическая надпись: Петр, которая, несомненно, относилась к апостолу, ибо только верховные апостолы могли предстоять лику верховных святителей, изображенных по сторонам их около горнего места. По правую сторону среднего окна, если смотреть к западу, стоял над кафедрой святительской апостол Петр, сохраняя свое неотъемлемое первенство; по левую же от него сторону другой апостол, вероятно верховный Павел, или, может быть, первозванный Андрей, как потому что он водрузил первым крест на горах киевских, так и потому что был основателем Византийской церкви и первоначальником ее патриархов. Таким образом, при соблюдении первенства Петра, соблюдалось и равенство с ним прочих апостолов; ибо они оба предстояли над горним местом, подобно как и теперь, при служении двух епископов, оба становятся рядом на горней кафедре, и старший только имеет почесть правой руки пред младшим.
По сторонам апостолов, отделенный от них промежутком боковых окон, уцелели мозаические изображения двух архидиаконов: Степана и Лаврентия; это опять по чину церковному, потому что и теперь, при служении архиерея, когда восходит он на горнее место для слушания Апостола и Евангелия, становятся по бокам его два диакона. Без сего объяснения могло бы показаться странным, почему в Софийском алтаре архидиаконы начертаны выше святителей? Оба они с кадильницами; Первомученик в левой руке держит камень, знамение своего страдания, который прижимает он к персям; а у Лаврентия ладаница для фимиама. Но почему же здесь именно Лаврентий, а не кто-либо другой из первых семи диаконов? Потому что он был из архидиаконов знаменитый мученик, а может быть еще и потому, что мощи Стефановы, перенесенные из Палестины в Рим, почивают там в одной гробнице с Лаврентиевыми, в его знаменитой базилике. Везде господствует какая-либо мысль, а не произвол художника, как иногда теперь бывает это у нас при украшении новых храмов; а между тем вы видите здесь и взаимное сближение двух Церквей, Восточной и Западной, в лице их первенствующих архидиаконов.
Обратим также особенное внимание на Выборг и расположение первостепенных святителей, изображенных мозаикой в алтаре Софиевском, по сторонам апостолов: ибо и это было не действие произвола, а благоговейного рассуждения, так как все было премудро устроено, к назиданию и утверждению верных, в доме Премудрости Божией. Имя каждого святого при нем сохранилось, написанное мозаическими златовидными буквами, сверху вниз, по древнему чину; одно только имя Златоуста монограммой, по частому его употреблению в служебниках греческих. С правой стороны, подле архидиакона Степана, стоит святитель Николай; рядом с ним Григорий Богослов, Климент Папа Римский и наконец Епифаний Кипрский; а с левой стороны, подле Лаврентия, святители Василий Великий и Златоуст, далее два Григория: Нисский и чудотворец Неокесарийский. Не служат ли и сии нерушимо сохраненные лики, в течение восьми веков, явным обличением новой теории римлян о мнимом главенстве их епископа, хотя они уверяют, что до разделения Церкви при патриархе Михаиле Керулларии, т. е. до 1051 г., Церковь Русская зависела также от Рима. Да послужит им обличением нерушимая стена Киевской Митрополии, созданная в 1037 году, следовательно за 14 лет до разделения, и если люди умолкнут, камни возопиют, по слову Евангельскому (Лк. 19:40). Никто не отъемлет первенства у Петра, но да не лишатся подобающей чести и прочие апостолы и святители, унижаемые кафедрой Римской.
Кто же ближайший святитель стоит, по первенству чести, с правой стороны верховного Петра? Кажется, место сие, по всем правам теории римской, должно бы принадлежать папе Клименту, как ближайшему преемнику апостола Петра, им самим рукоположенному на свою кафедру, тем паче что римляне хотят ставить его даже выше возлюбленного апостола Иоанна Богослова, как видимую главу Церкви Вселенской еще при жизни его. Близок Климент и для Руси, ибо его мощи принесены были в Киев из Корсуни равноапостольным Просветителем нашим и даже, его святительской главой, рукоположен был соборно первый епископ, родом из русских, чтобы тем заменить посвящение патриаршее. Сколько казалось важных причин, чтобы ему стоять на первом месте. Не смотря на то, ближе всех к Петру поставлен чудотворец Мирликийский Николай, епископ хотя и древней, знаменитой кафедры, но не из старейших, прославленный чудесами и крепкий поборник Православия на Первом Вселенском Соборе, который он представляет здесь своим лицом, свидетельствуя о Никейском символе. И так напрасно думают ревнители Рима: будто лишь после перенесения мощей святителя, из Мир Ликийских в Бары, и бывшего там частного собора, Папа указал нам особое чествование сего великого святителя. Нет, он занимал уже первое место в Софийском соборе более нежели за полвека до перенесения его мощей.
Кто же занимает второе место с левой стороны апостолов? Опять не Климент, но святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, величайший поборник Православия в своем веке и составитель литургии, доныне совершаемой в православной Церкви. После него стоят, друг против друга, с правой и с левой стороны, на третьем и четвертом местах, два великих архиепископа Цареградских: Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, составляющие, вместе с Василием, тройственный лик иерархов, предпочтительно чествуемых Вселенской Церковью: Григорий, глубочайший богослов, как свидетельствует само его название, Златоуст, красноречивейший вития и также составитель литургии, употребляемой в наших храмах. Потом уже, в пятом только месте, поставлен подле Григория Богослова святой Папа Климент; (какое смирение для превозношения римского!) здесь и сама его кафедра уступает цареградской, коей два иерарха стоят выше. Напротив его, рядом со Златоустом, начертан святой Григорий Нисский, брат Василия Великого, известный по своим духовным творениям и присутствовавший на Втором Вселенском Соборе, на котором окончательно утвержден и дополнен Никейский символ веры, с тех пор неизменно сохраняемый в Церкви православной. И так лик его служит свидетельством нерушимости ее догматов в обличением нововведений римских в символе. Наконец последними начертаны, друг против друга, на стенах алтаря святой Епифаний Кипрский, написавший обличительную книгу против всех ересей, бывших до него и при нем, и потому глубоко уважаемый Восточной Церковью, и святой Григорий Чудотворец Неокесарийский, прославленный чудесами и составлением Первого Символа веры еще до Никейского. Вот какие великие поборники православия собраны в святилище Софийском во свидетельство векам грядущим, дабы и позднейшие совершители таинств в священных стенах сего храма не отступали никогда от завещанного им Православия.
Все они изображены в белых крещатых фелонях, с Евангелием в руке, как истинные проповедники дома Премудрости Божией, по слову книги Притчей: Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь, посла своя рабы созывающи с высоким проповеданием, приглашая всех на чашу: иже есть безумен да уклонится ко мне, и требующим ума рече: приидите и вкусите от трапезы (Притч. 9:1–6). Трапеза и чаша уготованы горе, пред глазами всех; проповедника сзывают к ней проповедью, и потому у каждого в руке священная книга; другая рука или благоговейно прижата к сердцу, или благословляет, и здесь мы можем видеть всю суету мудрствования мнимых старообрядцев; ибо в уцелевших мозаиках знамение крестное употребляется безразлично, судя по тому, как с большей или меньшей точностью, изобразил благословляющую десницу мозаист, не всегда искусный: у Святителя Николая оно ближе к двуперстному, а у Златоуста, и еще явственнее у святого Григория Нисского, оно прямо именословное; все же кресты на стенах без изъятия четырехконечные, в обличение суемудрых. Такие же кресты, в большем виде, занимают нижнюю часть алтарной стены вокруг сопрестолия горнего места, потому что тут изображения лиц были бы заслоняемы епископами, восходившими на первую ступень и восседавшими на сопрестолие, когда они служили с Митрополитом всея Руси, а пресвитеры садились на нижней ступени у ног их, где и теперь они садятся при служении архиерейском. Как это все было мудро устроено для благолепия иерархического служения, и как жаль, что это сохранилось только в древних соборах: ибо в новейших, даже в самых великолепных, не существует ни горнего места в настоящем его виде, ни сопрестолия около него, а сидящий архиерей совершенно закрыт от народа высотой запрестольного креста или колоссальной дарохранительницей; а вместо сопрестолия ставят стулья для пресвитеров, что совсем не в порядке, потому что не подобает сидеть не вокруг престола, а позади его.
В Киеве кафедра митрополичья о семи ступенях, и господствует над всей церковью, так что виден за престолом восседающий святитель; а семь ступеней горнего места, кроме символического значения богословских добродетелей, изображенных и на Софийской иконе Премудрости Божией, знаменовало также степень чести русского Первосвятителя в иерархии Вселенской Церкви, как самостоятельного архиерея, первенствующего над многими подведомственными ему епископами. Престол горний патриарха был о двенадцати ступенях, равно как и облачательный амвон, и это преимущество чести сохранилось доселе за фессалоникийским архиепископом, который соблюдает его даже в убогой церкви своей, где едва может поместиться столь высокий амвон, ибо драгоценно такое предание бедствующему Востоку.
Если теперь столь величественным представляется внутри алтаря сидение и стояние святителя на горнем месте Софийском с двенадцатью сослужащими ему архимандритами и пресвитерами, во время чтения Апостола и Евангелия: что же было прежде, когда с первенствующим митрополитом служили еще, кроме двенадцати пресвитеров, и епископы всея Руси, занимавшие верхнюю ступень горнего сопрестолия над иереями? Все это было открыто взору мирян, и с высоты хор и из средины храма, потому что иконостас не был первоначально так высок и шире были царские двери. Зрелище сие представлялось еще в большем величии, когда целы и свежи были мозаические изображения апостолов и святителей вокруг горнего места, так что, от низу и до верху, все собрание живых и начертанных ликов сливалось в одно целое и торжествующая на небесах Церковь являлась сослужащей воинствующей на земле, соединяясь с ней в один священный сонм. Знаете ли откуда заимствована сия великолепная картина? Святой Иоанн Богослов изобразил нам Церковь небесную, которую созерцал в духе. Раскройте четвертую главу его Апокалипсиса: «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе». Вот сквозь какие двери смотрел Тайновидец. «И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий… И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Это символы, данные Церковью четырем Евангелистам, и заметьте, что сидение и стояние священнослужителей на горнем месте бывает собственно во время чтения Апостола и Евангелия. Видите ли, как знаменательно действие сие в чине Божественной литургии, которое есть образ небесной и отражение оной на земле. Не без глубокой мысли предметами мозаических изображений, на алтарной стене, избраны были два великие момента Божественной службы: возглашение слова Божия и приобщение вечери Христовой.
Извините, что я несколько как бы отвлекся от своего предмета, но едва ли и отступил от него, потому что вы от меня требовали символики Софийской, а значение горнего места весьма важно в храме, и я бы желал, чтобы Софийский послужил образцом для вновь сооружаемых храмов, и были бы в них исправляемы погрешности, вносимые западными архитекторами в зодчество Византийское. Не разумея символики и потребности нашего Богослужения, они обыкновенно нарушают необходимое, для порядка и чина церковного, разделение алтаря на три части; а горнее место думают заменить большой запрестольной картиной, потому что на Западе новейшие престолы приставлены к стене, хотя в самом Риме древние базилики служат для них явным обличением своими горними кафедрами. У нас же все устроено по древнему, а древнее – по горнему образцу, как некогда было сказано Моисеем при сооружении скинии в пустыне, послужившей начальным образцом не только ветхозаветному храму, но и Новозаветной Церкви: «виждь, да вся устроиши по образцу показанному тебе на горе» (Исх. 25:40). Это свидетельствует, как должны мы свято соблюдать все священные предания преемственно к нам дошедшие, и не дозволять себе при сооружении наших храмов никаких нововведений, нарушающих древнейшее чиноположение.
Достойно внимания, что на четырех основных арках, поддерживающих главный купол, изображены мозаикой в кругах, еще отчасти сохранившиеся, сорок мучеников Севастийских, которых особенно чтит Церковь, празднуя им даже и в скорбные дни Великого поста, ибо велик поистине был их подвиг. Они предпочли замерзнуть в ледяном озере ради исповедания имени Христова, хотя мучители, для большего их искушения, затопили на берегу баню и, когда не устоял один из числа их против такого искушения, то место его заступил один из совершителей казни, будучи поражен твердостью духа мучеников, и вместе с ними удостоился нетленного венца. Какая же была мысль изобразить лик сих мучеников на основных арках? На костях мученических основалась Церковь Божия в первые три века гонений, бывших против нее на земле. Посему предпочтительно изображаются лики мучеников и исповедников на основных столбах ее и арках, и здесь Севастийские, как более именитые, разделены по десяти на каждую арку, под главным куполом.
Там, где арки сии опираются на столбы, начертаны были мозаикой лики пророков, возвестивших будущую славу Церкви Христовой, как можно судить по одному сохранившемуся изображению, с левой стороны на алтарной арке, хотя и без имени. Вероятно, таким образом расположены были четыре великих пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Однако с лицевой стороны двух боковых арок, если смотреть к алтарю, сохранились два мозаических изображения не самих пророков, но Той, о которой они предрекли: «се Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Эммануил» (Ис. 7:14) и благовестившего ей Архангела. Пречистая Дева изображена с веретеном в руках, прядущей, как говорит предание, виссон на завесу Иерусалимского храма, пред Святая Святых, которого таинственным образом была сама. На противоположной стороне Архангел с лилией в руках – знамением девственной чистоты Божией Матери. Оба сии лика, на расстоянии всего пространства алтарного, представляют одну полную икону Благовещения, которая, по существующему установлению, необходимо должна быть изображаема в каждой церкви на Царских вратах, так как и Тайная вечеря над ними.
Вот все, что осталось от мозаик в Софийском соборе. Остальное лишь фрески; но в их разборе надобно быть осторожным и не смешивать древнего с позднейшим. Весьма замечательно то обстоятельство, что все одинокие лики святителей, мучеников и преподобных, в строгом величии расположенные по столбам и тесным простенкам, изображают только святых пяти первых столетий, и нет между ними ни одного из числа позднейших, хотя собор Софийский сооружен в XI веке. Трудно разгадать причину такого исключительного выбора одних древнейших ликов. Не оттого ли, что в Киевской Софии хотели повторить только те иконные писания, какие находились в Цареградской, сооруженной не позже начала VI столетия. Там не было однако фресок, а только одни мозаики, и более на сводах, нежели на стенах, которые покрыты мрамором, как это теперь можно видеть после ее обновления. Может быть, у нас хотели изобразить в лицах одну лишь славнейшую эпоху первобытной Церкви, когда вся она была облита кровью своих мучеников и прославлена исповеданием веры своих святителей.
При строгом соблюдении единоличности изображений в алтаре и в самой церкви довольно странно видеть многоличные картины в жертвеннике и диакониконе, изображающие в первом деяния Петровы, а во втором – деяния святых Иоакима и Анны и Матери Божией; едва можно верить, чтобы они были современны мозаике. Гораздо позже времен Ярослава был устроен в отделении диаконикона особый придел Святой Богоотец, и можно думать, что в это время расписаны были таким образом его стены. Хотя нет сомнения, что и это древние фрески, уцелевшие под слоями штукатурки: но едва ли не позднее они разорения монгольского, ибо тогда выгорела известь по стенам. В отделении жертвенника следовало бы, кажется, искать какие-либо символы приуготовляемой жертвы, а не деяния Апостола; однако тут изображены: изведение Петра из темницы, обращение Корнилия сотника и крещение Апостолом в купели Матери Божией, как предполагает местное предание.
В двух боковых приделах святого Георгия и Архангела Михаила, прилегающих к жертвеннику и диаконикону и современных началу храма, нет сомнения в древности фрески на горнем месте: ибо тут предпочтительно изображены в колоссальном размере те лица, коим посвящены сии приделы: Великомученик и Архангел, подобно тому как и лик Божией Матери в главном алтаре. По сторонам еще видны древние лики первостепенных святителей, имена коих уже стерты, по три с каждой стороны. Но мне опять кажутся сомнительными деяния Великомученика на стенах алтаря, и фигуры волхва и языческого кесаря Диоклетиана там, где древняя, строгая символика допускала только лики тех, кои имели право священнодействовать внутри святилища, т. е. апостолов и святителей. Довольно странно и в приделе Архангела изображение низвергаемого диавола под мечом Архистратига, хотя явления из мира ангельского скорее могли быть допущены, нежели фигуры языческие, в святыне алтаря. Между фресками, обновленными на хорах собора, опять являются многоличные картины: предательство Иуды в саду Гефсиманском, жертвоприношение Исаака, как образ жертвы Христовой, посещение Авраама тремя Ангелами, трапеза у него трех Ангелов и три отрока в печи халдейской, как символ Троицы; тут еще изображения брака в Кане Галилейской и Господа, возлежащего на вечере. В описании митрополита Евгения упоминается о портретах некоторых из великих князей наших, которые были начертаны стенной живописью на хорах и теперь уже не существуют. Это соответствовало подлиннику византийскому, где также над хором сохранены мозаикой портреты царей и цариц различных династий, с их детьми, преклоняющихся пред ликом Божией Матери, ибо хоры сии собственно предназначены были для почетных лиц женского пола.
Что касается до уцелевшего изображения различных зверей и ловли, всадников и пеших, которыми украшены были кругообразные всходы, ведущие на хоры, то это во вкусе византийском и удовлетворяло вкусу наших князей. Четыре бронзовых коня поставлены были, как известно, на фронтоне Цареградской Софии, и доселе мы видим в древнейших храмах Грузии на их наружных стенах изваянные фигуры различных зверей, преимущественно львов и леопардов, и птиц с плетеницами цветов. Во Владимирском соборе святого Димитрия, на фронтоне, изображен Господь Саваоф на престоле, и вокруг Него лики ангелов и разнообразные фигуры зверей; тут есть своя мысль: это олицетворение псаломского стиха: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Здесь же, в Софийской храме, как и в древних византийских и грузинских, это не что иное, как произведение игривой фантазии строителей, допустивших и события из внешней жизни, для внешнего украшения своих храмов.
Но зато как все отчетливо во внутренних частях храма Софийского! Там можно объяснить причину и значение почти каждой иконы, и весьма жаль, что при обновлении собора не держались строго его древней, знаменательной символики. Я уже объяснял вам, как таинственно раскрывается она с высоты хор до самой глубины алтаря. Достойно внимания и то, как обдуманы были все фрески и в трапезной части храма; вы можете опять это заметить на хорах. Так как они предназначены были для женского пола, а западная их часть, против самого алтаря, преимущественно для великокняжеского семейства, то внизу, на трех ближайших столбах, с правой и с левой стороны, изображены только женские лица мучениц и преподобных, которые своим примером должны были возбуждать державных молитвенниц; но дальше трапезной части вы уже не встречаете на столбах женских лиц.
Говоря о хорах, не могу не пожалеть, что западное окно, теперь крестообразное, слишком тесно; а прежде оно было почти во всю стену, и так оно доселе сохранилось в Цареградской Софии; оттого там проливается чрез это окно, в вечерние часы, обильный свет заходящего солнца на все золотые мозаики сводов, и вся она как бы горит золотом.
При хорах на столбах продолжаются отчасти женские лики мучениц, с крестами в руках, и преподобных, с воздетыми горе руками; но их более с правой стороны, нежели с левой. Есть между ними лики мучеников и пустынножителей, и царственные лики. Ближе к церковным аркам – святители и пророки: но имена их не всегда удачно подобраны, хотя и старались соображаться с подлинником. Так, например, Моисей у правого клироса представлен с Евангелием в руках, а пророк Иона – в одежде, опушенной мехом. Константином назван греческий император, в царской одежде, с малолетними царем и царицей в малом виде по сторонам. Судя по одежде, это не может быть Константин Великий, ибо он иначе изображается на фресках афонских, современных нашим, и в другой короне; это должен быть кто-либо из позднейших Палеологов, и если разгадать, кто сии царственные особы, то по ним можно бы определить время самих фресок. На главной арке три отрока вавилонских один над другим; по странной своей одежде, полугреческой и полуперсидской, со звездами на хламиде, так названы оттого, что сходны одеждой с тремя отроками в печи халдейской, которые изображены на хорах. На столбах с левой стороны, против жертвенника, написаны фресками два верховных Апостола, Предтеча и Богослов. Меня уверяли, что так найдены были сии фрески, хотя в этой части храма обыкновенно не пишут апостолов, но в лицах Петра и Павла нельзя сомневаться. Имен сохранилось только 26, из них три женских, прочие все дописаны. Вокруг храма, в галереях, большей частью, мученики во всеоружии, как бы охраняющие святилище. Вообще все сии лики святых, на хорах, представляют сонм угодников Божиих, как бы видимо участвующих в молитве, вместе с православным народом.
На простенках под хорами, ближе к алтарю, обновлены по старым рисункам четыре фрески: явление воскресшего Господа Мироносицам, уверение Фомы, вознесение и сошествие Господа во ад, или воскресение, которое иначе никогда не изображалось в древней иконописи. Прочие фрески на сих простенках, кругом хор, утратились и заменены Вселенскими соборами, которые тут были написаны со времен митрополита Петра Могилы. Можно предполагать, что и до него были тут картины семи соборов, по глубокому к ним уважению православной Церкви, ибо и в Вифлеемском соборе, обновленном мозаикой при крестоносцах в XII веке усердием императора греческого Мануила, на тех же местах под хорами изображены все семь Вселенских и девять поместных соборов, не только в лицах, но и с мозаическим начертанием главных догматов, которые были на оных провозглашены.
Утомительно было бы исчислять все фрески, и даже бесполезно после их обновления; древнейшие более сохранились на арках. Скажу в заключение, что, несмотря на предполагаемую их древность, относимую к временам Ярославовым, я не могу согласиться, чтобы они были современны мозаикам, потому что нет в них той же строгости в расположении ликов. Странно и то, почему храмоздатель ограничился бы одним алтарем и четырьмя основными арками купола, для мозаики? Не позже ли явились фрески? Некоторые из них действительно уцелели в совершенной свежести, как например лики мучеников: Стратона и Харитона, в алтаре преподобных Печерских, и носят характер афонской живописи времен Панселина; но другие оказались с красками стертыми, а у иных надобно было угадывать сами очерки. Почему же это могло бы так случиться, если все они одинаково были покрыты несколькими слоями штукатурки?
Но вот что меня изумило: опытный в живописи, священник, который сам участвовал в иконописном обновлении собора, указал мне на сводах алтарных Успенского придела остатки полустертой фрески: фигуру мученика, говоря, что в таком виде находили большей частью фрески на стенах храма; тут одни лишь очерки; а между тем этот придел не существовал во дни Ярослава, ибо он устроен в наружной пристройке, которую соорудил Петр (Могила) для укрепления стен Софийских. Как же тут могли явиться фрески, если в его время уже утрачено было искусство писать на теплой извести? Впрочем, школа фресок еще сохраняется на горе Афонской, хотя и в большом упадке. Не смею говорить утвердительно, но мне кажется, что фрески Киевского собора можно отнести к иному времени, не столь давнему как эпоха Ярослава, но к XIV столетию, когда первосвятители наши, хотя и водворившиеся уже в Москве, еще посещали Киев и оставались там даже иногда по году, а митрополит Киприан прожил несколько лет по временном удалении с кафедры Московской. Может ли быть, чтобы столь просвещенный святитель, видевший благолепие храмов Святой горы, мог оставаться равнодушным к запустению своего кафедрального собора и не украсил его вновь стенной живописью, когда мог пригласить с Афона, ему знакомого, опытных художников для расписывания фресок? Таково мое мнение: не смею однако разрешать сего вопроса, предоставляя оный людям, более меня опытным. Здесь останавливаюсь; не знаю, удовлетворил ли я вашему желанию, хотя и старался оное исполнить. Примите слабый труд сей за изъявление моего глубочайшего уважения к той благородной ревности, которой вы исполнены к нашей древности и святыне.
Киев, 14 августа 1859 года.
Значение Киева для России
«Видите ли горы сии?» – невольно восклицает каждый путник, когда внезапно пред ним откроется вся златоверхая святыня киевская на заветных ее высотах. Убогий ли богомолец, едва достигающий на клюках благочестивой цели своего странствия, или роскошный барин, со всеми дорожными удобствами, несущийся по гладкому шоссе, одинаково воскликнут при этом чудном зрелище: «Видите ли горы сии?» Они бессознательно повторяют слова Апостола, водрузившего на сих горах первый крест, но едва ли кто из них, в сию радостную минуту, повторит мысленно в своем сердце и последующие слова Первозванного: «Яко на сих горах воссияет благодать Божия».
А это самое и есть та основная черта Киева, которая доселе его делает сердцем всея Руси и к нему влечет из дальних краев всех православных чад ее. Только они одни в состоянии понять и оценить, что такое Киев для русского человека, и здесь, в нашем родном Иерусалиме, находят себе отголосок дальнего, не всегда им доступного на чужбине. Как же думают усвоить себе Киев в своих несбыточных мечтах люди, совершенно ему чуждые, не связанные с ним никакими воспоминаниями отечественными, у коих сердце никогда не билось при звуке Лаврского колокола, зовущего во глубину пещер, у которых рука никогда не поднималась для крестного знамения, когда издали проглядывала из чащи леса сторожевая башня Православия – колокольня Печерская!
«Видите ли горы сии?» – на них водрузил Первозванный знамение нашего спасения, но хотя по всей Скифии проповедал Апостол, он почитается только Апостолом Руси, и одни лишь православные племена славян благоговеют к его памяти. «Видите ли горы сии?» – с их вершины низвергнул Перуна равноапостольный князь, но он был просветителем только земли русской; кровь его доселе течет в жилах древних княжеских родов наших; гробница его доселе стоит в сооруженной им Десятинной церкви, а честная глава его в лавре Печерской; крещальня двенадцати его сыновей видна еще в долине Крещатика, который напоминает своим именем крещение всея Руси. Это все, чрез столько веков, неразрывной цепью связывает с ним все истинно русское-православное, которое видит в святом князе Владимире начаток нашего спасения. Но его имя и память чужды тем, кто не носит имени русского; едва-едва, как бы чуждые пришельцы, включены оба наши равноапостольные Владимир и Ольга в святцы западные, хотя для нас были они денницей христианства.
А дети Владимировы, наши князья страстотерпцы, Борис и Глеб, здесь подвизавшиеся. А лики преподобных, воссиявшие нам из мрака пещерного, по манию великих отцов иночества, Антония и Феодосия, и доселе как бы заживо почиющие на ложах своих во свидетельство векам минувшим! Сия сокровищница мощей в недрах земли драгоценней всех сокровищ, сзывающая к себе тысячи богомольцев от Дуная и до Амура, – разве она возбуждает малейшее сочувствие нынешних мнимых родичей Киева, на него посягающих как бы по праву местных землевладельцев, хотя они искони были ему чужды, и в новейшие времена не могут с ним сродниться, ни сердцем, ни душой.
Но как отличил премудрый Соломон на своем судилище истинную мать от мнимой? Не по материнским ли ее чувствам к своему младенцу, когда возвратил ей лукавоусвоенного чуждой? Не надобно спрашивать и о Киеве: чей он или чьим будет? Стоит только выйти весной на чудный мост его, или окинуть взором окрестные пути с какой-либо из его высот, и вы без всякого слова поймете, кому единственно может принадлежать Киев. Невольно повторится вашему сердцу сия радостная пасхальная песнь: «Возведи окрест очи твои Сионе, и виждь, се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки».
И на каком прочном основании утвердили православие в Киеве Просветитель наш и сын его великий Ярослав, так что и чрез восемь столетий никакая неприязненная сила не может поколебать его на сих заветных горах! Если рушилась, от разгрома монгольского, Десятинная церковь равноапостольного князя, то его уцелевшая гробница послужила основным камнем для обновленного храма; а Святая София, древнейшая митрополия всея Руси, где вначале утвердилась кафедра Первосвятителей наших, устояла сквозь все бури времени и народов во свидетельство тому, что никогда не будет сдвинут с места своего сей начальный наш светильник и нерушима горняя стена его, под молитвенной сенью Матери Божией.
Не поколебался краеугольный камень Святой Софии и тогда, когда уже, казалось, сама кафедра ее перенесена была на север, вместе со столицей князей и Владык в престольную Москву. Киевскими, а не Московскими возглашались в соборе Успенском митрополиты всея Руси; три ее церковных столпа, Петр, Алексий, Иона, так записаны в святцах русских и все три священнодействовали на престоле Софийском. Когда же разделилась митрополия на северную и южную, во главе стал опять Киев, несмотря на жительство его Владык в пределах литовских; еще теснее сделалась связь его с Царьградом, ибо митрополиты Киевские приняли на себя титулы экзархов Вселенского патриарха, и этот период юго-западной нашей Церкви запечатлен мученической кончиной митрополита Макария, которого нетленные мощи почиют в храме Святой Софии, как бы для нового утверждения ее кафедры.
Отпадение в Унию почти всей иерархии юго-западной, начиная с самой главы, временно угрожало совершенным запустением Церкви, но не могло однако здесь поколебать Православия. Напрасно стучалась неприязненная Уния в двери Софийские; они оставались заключенными на все время преобладания западного, и замолк глас молитвы внутри святилища, доступного только православному богослужению, которым впервые оно огласилось. «Господь утвердит селение свое утро за утра», – начертано греческими письменами поверх нерушимого образа Пречистой Девы, стоящей на камене, воздевшей к небу руки о своем доме и людях, и дом Премудрости Божией, с древней его кафедрой, остался навсегда краеугольным камнем Православия на юге нашего отечества.
Патриархи восточные подвиглись со своих престолов, чтобы не дать его сдвинуть иноверным, и святитель Иерусалимский обновил опять митрополию Киевскую и всю иерархию юго-западной Руси, а ряд великих мужей Церкви на кафедре Софийской укрепил навсегда Православие в Малой России, связав ее сперва гражданскими узами с Великой, а потом и церковными с патриаршим престолом Москвы, но Киев остался навсегда первенствующей кафедрой русской Церкви.
Знаете ли, какую силу имеют слезы Преподобных? Течением их и глубиной своих воздыханий возделывают они бесплодие пустыни и потом из мрака ее светят вселенной. Если в том сомневаетесь, взгляните на лавру Печерскую: что был Антоний, безвестный отшельник? что Феодосий – отцы иночества на Руси? Не в духе ли прозорливости предсказал современный им летописец Нестор, как прочно полагаемое ими основание: «Многия обители, – писал он, – основаны были от князей и бояр, но не таковы они как те, которые созидаются молитвой и слезами». Так соорудили свою обитель Антоний и Феодосий, и вот она не только пустила бесчисленные ветви во всю русскую землю, но и в самом Киеве сделалась корнем Православия.
Благодетельное влияние Лавры Печерской соображалось с нуждами времени и было столь же разнообразно, как и сами обстоятельства, его вызывавшие на помощь обуреваемым. Во времена домонгольские она рассылала своих подвижников проповедовать имя Христово между язычниками, и многие из новых епископских кафедр украсились ее иноками. Когда опустел Киев после бури монгольской, то в пещерах бывшей лавры появились опять подвижники, возбудившие духовную жизнь на пепелище древней столицы, доколе не поднялась она вновь из своих развалин. Обновилась и сама Лавра уже под владычеством Литвы, еще тогда не зараженной фанатизмом римским, и стала центром Православия на всем юге, когда начались гонения римские, с присоединением Литвы к Польше и особенно при появлении Унии.
Ратовали за Православие сильные тогда князья Острожские; но двигателем их был именитый архимандрит Лавры, Никифор Тур, ревнитель Православия на соборе Брестском. Его преемники сделались единственными воителями за церковь русскую, доколе не обновилась ее иерархия благословением патриарха Иерусалимского. Но и тогда Лавра Печерская оставалась сердцем и средоточием, одна отразившая на юге весь неприязненный напор Унии: туда стекались все молитвенники, оттуда истекала помощь духовная и даже вещественная, по обилию ее средств.
Когда же настало время действовать просвещением духовным, чтобы преодолеть козни иезуитов, которые повсюду домогались распространить свое учение, то не из Лавры ли опять возник сильнейший им отпор? Братское училище было поистине чадом Лавры, ибо ее великий архимандрит Петр (Могила), восшедший на кафедру Святой Софии, сделался не только благодетелем, но и обновителем сего братства, которое пролило столько просвещения духовного на всю русскую землю и доселе процветает, как старшая академия наша. И так смиренные отшельники, Антоний и Феодосий, более сделали для Киева, нежели сами князья его, и даже до сих пор Лаврой их дышит Киев, привлекая толпы богомольцев к заветной ее святыне.
Отнимите Лавру, и изменится весь религиозный характер Киева; заключите врата Святой Софии, как было во дни Унии, и утратится предание древнейшей иерархии нашей; если только опустеет Златоверхая обитель, куда зовет Великомученица одних лишь православных богомольцев, хотя она пострадала за Христа в то время, когда еще не было разделения Церквей, – и опустеет старый Киев, ибо на сих трех священных местах: в Лавре, в Святой Софии и в обители Михайловской сосредоточена вся его жизненная сила; там его душа, его сердце. Без них останется один лишь торговый город, каких много на Руси, но утратится его церковное значение, и чрез это оскудеет и сам город. Не тоже ли будет и с Римом, когда он перестанет быть столицей западного христианства?
Тогда только могут усвоить себе Киев иноверцы, если нарушится жизненная его связь с Россией, т. е. Православие, которое издревле пропитало собой весь его внутренний церковный быт. Но доколе теплится тихая лампада над гробом преподобного Антония в ближних пещерах, доколе спускается, при торжественных гимнах, чудная икона Успения в Царских вратах Великой церкви, доколе стоит нерушимая стена Софийская, с ликом Богоматери, осеняющей престол, на котором уже восемь веков приносится бескровная жертва православных, – до тех пор не поколеблется древний град Владимира и Ольги, на его заветных горах, благословенных Первозванным Апостолом. «Горы окрест его и Господь окрест людей своих», по выражению псаломному о Сионе, граде царя великого, а Киев – наш родной Сион.
1861 г.
Крестный ход на Крещатик в день Святого Владимира
Радостное событие ознаменовало в древнем граде святого Владимира день его памяти и место крещения его двенадцати сыновей: обновился временно оставленный, но не забытый сердцем киевлян, крестный ход к их купели, которая была начатком духовного просвещения всей Руси! Воды Почайны, оттесненные Днепром, как бы вновь хлынули к своему устью, где присоединялся к ним ручей Крещатика; и древняя матерь градов русских созерцала чрез восемь столетий то умилительное зрелище, какое поразило некогда наших предков в сей священной юдоли.
Не будем говорить, как и почему прекратился торжественный ход, исполненный стольких воспоминаний отечественных и церковных. Будем радоваться и благодарить Бога, что опять восстановлен еще в большем блеске. Тогда одна лишь крутая стезя спускалась к уединенному кладезю и не были обделаны окрестные горы; теперь уже все пути стропотные сделались правыми, по выражению евангельскому, и царский путь из обеих столиц пролегает вдоль берега Днепра, привлекая благоговейное внимание мимоидущих к соседнему памятнику Крещатика. Одинокий столп его, увенчанный крестом, возвышается из зелени холмов уже более не в пустыне, которая процвела окрест него; собор Софийский, отколе бывали ежегодно крестные ходы на источник Владимиров, храм Десятинный, бывший соборным во дни святого князя и где сам он почиет в древней своей усыпальнице, уже обновлены после многих лет ожидания; они готовы опять выпустить из священных врат своих толпы богомольцев вслед за победными хоругвями царя славы туда, куда шествовал некогда сам равноапостольный князь для крещения чад своих и всенародной семьи. И так устремимся опять, вслед за ним, к спасительной купели, в день его памяти и в день Преполовения Пасхальных торжеств, и почерпнем там духовную радость и благодатные исцеления: ослепший в язычестве прозрел в минуту крещения; его источник врачует также болезни глаз.
Давно уже благочестивые киевляне жаждали восстановления памятника, который пришел в совершенную ветхость; была мысль построить над кладезем и небольшую церковь; но прежде нежели соорудить вещественное здание в честь Равноапостольного, надлежало обновить духовное торжество, напоминавшее нам крещение Руси, у подножия святых гор Киевских, на коих водрузил крест Первозванный Апостол; и вот, по взаимному усердию духовных и светских властей богоспасаемого Киева, восстановлен ход! Достаточно было немногих слов, чтобы как от искры вспыхнуло пламя: до такой степени было возбуждено общее внимание к святому месту и делу. Ревностный архипастырь благословил, усердный начальник края оказал необходимое содействие, и все мгновенно пополнилось; так всегда бывает, когда благое предприятие уже достигло своей духовной зрелости!
Умилительное зрелище представлял Киев, в день памяти своего Просветителя; казалось сам он, по слову церковной песни, восседал опять на высоте престола богоспасаемой матери градов! Так все было исполнено его именем и, свыше всякого слова, свидетельствовало на самое деле, что здесь воистину сердце Руси всегда было, есть и будет: Киев псаломный град, Царя великого; горы окрест его и Господь окрест гор!
В Десятинной церкви, усыпальнице святых Владимира и Ольги, совершал божественную литургию митрополит Арсений, ознаменовавший первый год своего святительства в Киеве столь утешительным событием для своей паствы. Во время литургии выступил из соборного храма Ярославова крестный ход со святыней Софийской: с ковчегом, где хранятся части мощей великомученицы Варвары и равноапостольных Просветителей всея Руси и вселенной, князя Владимира и царя Константина, и с древней чудотворной иконой святителя Николая, заступника земли Русской. Икона всех скорбящих Радости присоединилась к ним у церкви Златоустовой, на пути к Десятинной; в ее ограде ожидали они Владычнего хода, к которому должна была постепенно присоединиться святыня прочих церквей, стоявших на его торжественном пути; и вот вышел Владыка из храма Десятинного, со всем своим клиром, неся честный крест над главой для освящения вод. Хоругвям церковным предшествовали разноцветные значки всех цехов киевских, и знамена воинские следовали за духовным шествием, для их окропления над возобновленным источником святого Владимира; бесчисленные толпы народа двигались по сторонам, замедляя шествие, по вместе с тем и предавая ему чрезвычайную торжественность.
Не по широким улицам обновленного Киева, старого только по имени, потянулось шествие; нет, оно последовало той стезе, которой шествовал сам равноапостольный князь, из соборного храма Десятинного, мимо своих теремов и упраздненного им холма Перунова, к златоверхой обители Михайловской, знаменовавшей победу Архистратига над древним врагом человеческим. И вот с того холма, где водрузил Апостол первый крест, возвестив будущую славу Киева, спустился по высокому крыльцу клир церковный с частицей мощей Первозванного, которая была принесена с горы Афонской, как будто сам Апостол нисходил видеть исполнение своих пророчеств! Ковчежец мощей его понесли рядом с ковчегом Софийским равноапостольного Просветителя нашего, который водворил на Руси христианство, предсказанное Апостолом. Какой отголосок на расстоянии стольких веков и, вместе с тем, какой предмет для благоговейных дум! Это была первая торжественная встреча, вторая же у бывшего холма Перунова, где, из первоначальной церкви Владимировой, вынес икону его Ангела протоиерей Трехсвятительский, как бы приветствуя святого князя.
На каждом шагу историческое воспоминание! Далее из врат златоверхой обители, основанной первым митрополитом Киевским, во имя Ангела своего, вышел со всей братией настоятель ее епископ Серафим, с иконой Великомученицы, при пении хвалебных гимнов. Опять остановилось торжественное шествие и опять опустил с главы своей Владыка крест осеняльный, чтобы окадить святую икону и осенить на все стороны стеснившиеся толпы парода. Отселе, уже не летописной стезей старого Киева, где сходили к Почайне в дни Владимировы, ибо давно засыпан Боричев взвоз, но по крутому спуску, мимо римского костела, тронулось шествие на Крещатик.
В эту минуту навстречу главного Владычнего хода должен был спускаться мимо зелени царского сада другой крестный ход из Лавры Печерской, и чрезвычайно великолепно было бы соединение обеих у фонтана, на улице Крещатика; но к сожалению Лаврский несколько опоздал и настиг только у самого схода в глубокую юдоль к источнику, во время чтения молебного Евангелия. Крестное шествие из Лавры было уже само по себе чрезвычайно величественно, потому что в нем участвовали, под предводительством наместника архимандрита Иоанна, двенадцать иеромонахов и весь клир Великой церкви, со списком чудотворной иконы Божией Матери и драгоценным образом равноапостольного князя, который принесло в дар усердие царское. Сюда же присоединилось духовенство всех печерских церквей, со своей святыней, и ректор семинарии, как настоятель обители малого Николая, со всей братией, неся чудотворную икону святителя. Толпы богомольцев устремились вслед за святыней из Лавры, так что с большим трудом могли соединиться оба крестных хода в тесноте долины, наводненной народом. С обеих сторон были им унизаны все горы снизу и доверху, как будто роскошный цветник внезапно испестрил их зелень своенравными узорами самых ярких и непрестанно движущихся плетениц.
Это было чудное зрелище, какого не может себе представить самое пылкое воображение. Промежду сих живых стен отрадно веяли хоругви и знамена, спускавшиеся к источнику, и вдали, в зеленой раме расступившихся гор, как бы рассеченных одинокой колонной Крещатика, открывался синий Днепр, с белыми парусами мимо плывущих судов и дальше темные леса черниговские. Давно минувшим дышало это настоящее; можно было перенестись духом в первые времена возникающей Руси, к колыбели ее веры, когда, по слову своего князя, стремилась Русь с тех же высот такими же несметными толпами сюда на Почайну, ко всенародной своей купели. Тогда, как и теперь, единое чувство одушевляло всех; здесь можно было убедиться каждому: до какой степени природна нам сия священная почва киевская, и как несвойственно ей все чуждое, не пропитанное родным ей православием, которое закреплено у нас целыми веками священных преданий.
Но тем не ограничилось церковное торжество: третий крестный ход из всех церквей Подола, предводительствуемый ректором академии архимандритом Филаретом, с иноками Братской обители и с чудотворной иконой Богоматери, ожидал уже пришествия двух первых, из старого Киева и Лавры. Таким образом тройственное их соединение совокупило единодушной молитвой все части горнего и дольнего города у того священного источника, где, в числе двенадцати сынов Владимировых, крестились и святые страстотерпцы Борис и Глеб. В обновленной красе являлся памятник Крещатика над кладезем, где опять заструились живые воды целебного источника и пробивались фонтаном из водоема, как бы радуясь, что вновь исторглись на Божий свет из недр земли после долгого запустения.
Прежде нежели приступить к освящению вод, митрополит произнес над самым кладезем умилительное слово, в коем изобразил многовековую летопись престольного Киева и, начав от проповеди Первозванного, возвестившего благодать Божию на сих горах, обратил внимание слушателей на событие сего пророчества. Владыка указывал постепенно на величественные храмы, коими украсился Киев древний и новый, на святыню Софийскую и Златоверхую, на преподобие Лавры, с ее почиющими подвижниками во глубине пещерной, и на выспренний храм Апостола, где водружен был первый крест. Тогда совершил освящение и, что весьма замечательно, нечаянно опустил на дно кладезя крест Десятинный, как бы для более прочного основания, так что должен был заимствовать для освящения другой крест, принесенный из Лавры.
Освятив источник, окропил митрополит знамена воинские около памятника, и крестный ход стал обратно подыматься по крутой стезе к старому Киеву. На каждом шагу было замедляемо шествие усердием народа, который стремился принять благословение своего архипастыря. Слышны были из толпы благодарные возгласы за обновление священного источника и давно желанного крестного хода. Как только отступило духовенство от кладезя, хлынули к нему толпы богомольцев, чтобы зачерпнуть его живой струи, ибо, по давнему преданию, целительны для глаз воды сего источника – быть может, в память прозрения самого равноапостольного князя, при своем крещении. Весь этот день, от утра и до вечера, теснился народ с водоносами около кладезя, и доселе каждое утро до зари стекаются туда богомольцы, ибо предание гласит, что целебная сила вод сих действеннее до восхождения солнца.
Таково усердие киевлян к святому месту, возвращенному молитве и чрез то сделавшемуся опять достоянием верующих. Граждане собрали уже несколько денег, чтобы устроить часовню при кладезе для охранения его святыни, чему благоприятствует близость его к большой дороге и купальням, где в летние дни стекается все лучшее и богатое народонаселение города. Омывающиеся ради прохлады в водах Днепра пусть вспомнят о том, духовном омовении грехов, которое истекло некогда на всю Русь из сей первоначальной купели их предков, и пусть каждый мимоходом принесет сюда свою лепту. Со временем устроится над кладезем и небольшая церковь во имя равноапостольного князя, на память крещения всея Руси: ибо отселе собственно можно считать не только церковное, но и гражданское начало ее существования, так как она вся переродилась чрез духовное свое просвещение. Господь да благословит благое начинание!
1861 г.
Обновление крещальни Святого Владимира
Повторилось и в нынешнем году торжество прошлогоднее, и еще с большим блеском: крестный ход к крещальному памятнику святого Владимира, на cей раз обновленному, в первобытной красоте своей, общественным усердием граждан киевских и некоторых доброхотных дателей. Величественное зрелище сие было достойно Киева и древней его святыни, и здесь, во всей полноте, представилось церковное значение Матери наших градов, обилие духовного ее богатства, в предносимых чудотворных иконах и многочисленности священного клира, при веянии бесчисленных хоругвей, сих победных знамен воинствующей Церкви Господа Сил. Горы киевские, которым некогда предсказал Апостол благодать Божию, покрыты были народом, уже восприявшим сию благодать; густые толпы его благоговейно спускались в глубокую юдоль к источнику, и все окраины оврагов унизаны были живой плетеницей самых ярких красок: все это стремилось к водам, как бы на зов Равноапостольного. И, при этом всенародном стремлении, глубокая царствовала тишина, так что ясно слышны были гимны, воспеваемые в честь Просветителей Руси. Здесь, в этом церковном торжестве, верней и чище всяких политических возгласов, выразилось исконное русское православие Киева и невольно вырывалось из уст неодолимое сознание: что Киев может быть только сердцем Руси и ничем иным.
Много воспоминаний отечественных и церковных соединилось в один этот радостный день, который вместе с тем был и днем воскресным. Церковь совершала намять шести Вселенских соборов, утвердивших ее Православие на незыблемом основании; праздник святой Ольги, случившийся в течение недели, отнесен был, по новому порядку, к тому же воскресному дню, – и таким образом вместе совершалась память равноапостольных бабки и внука. Было сверх того и отечественное торжество, по случаю рождения Великого князя Вячеслава Константиновича, который присовокупил, именем своего Ангела, Просветителя славян западных, к именам наших родных просветителей. Повсеместный звон колоколов в продолжение целого дня придавал ему особенное торжество.
Митрополиту угодно было ознаменовать этот день заложением храма в честь святого Владимира, который давно уже предполагалось соорудить на новых местах, близ университета. Место сие было избрано еще праведным старцем, митрополитом Филаретом, оставившим по себе столь благую память в Киеве. Но он не успел положить первый камень величественного собора, который хотел воздвигнуть по обновленному образцу древней Святой Софии. Обстоятельства изменились, и доброе намерение отлагалось с года на год; изменены были сами размеры громадного здания, по недостатку средств; и вот нынешнему митрополиту Арсению, возобновившему крестный ход на крещальню святого Владимира, после долголетнего ее запустения, суждено было привести в исполнение давнее желание двух своих предместников и всех киевлян православных.
После Божественной литургии в Десятинной церкви, обновленной недавно усердием царским, двинулся крестный ход от гроба равноапостольного князя сперва на крещальный кладезь. Митрополит шел с крестом, во главе всех священнослужителей старого Киева, которые несли святыню Софийскую и чудотворные иконы ближайших церквей. Пред вратами златоверхой обители встретил его викарный епископ Серафим со всей братией михайловской. Уложенный ей ход спустился к фонтану, у царского сада, и там соединился с ним еще один крестный ход, предводимый наместником Лавры, с многочисленным ликом ее иноков и клиром церквей печерских. Когда же они спустились в долину, к источнику святого Владимира, там, на обширной террасе, вновь устроенной около памятника, ожидал еще один крестный ход всех подольских церквей, с чудотворной иконой Киево-Братской Божией Матери; таким образом три величественных хода, тройственными гимнами, слились воедино у священного источника.
Сам памятник, как феникс, возродившийся из своего пепла, в обновленной красе утешительно представился взорам идущих к нему со всей святыней Киева; ярко сиял в лучах солнца, на темной синеве Днепра, белый одинокий столп, увенчанный золотым крестом над легким куполом, который имеет вид крещальной чаши. Резко отличается белизна колонны от темной, как бы гранитной арки, на которой она так легко поставлена, и под аркой сама часовня, и внутри ее источник, где крестил святой Владимир двенадцать своих сыновей и знатнейших бояр киевских; чистая вода струится из ветвей креста в чашу, над устьем крещального кладезя. Две великолепные иконы Равноапостольных, которые пожертвовала Лавра, уже поставлены на двух столбах часовни, и вся она постепенно украсится подобными иконами столь же дорогого письма.
Замечателен лик святой Ольги: по преданию, это есть верное ее изображение с древнего списка, подлинник которого писан в Царьграде после ее крещения живописцем императора Константина Багрянородного, и хранится в роду князей Белосельских. Греческими письменами начертано на иконе: сия есть владычица племени руссов, писал Григорий, живописец Константина Багрянородного. Тут будут и лики родственных ей святых: страстотерпцев русских, Бориса и Глеба, Игоря, Михаила Черниговского, княжившего в Киеве при разорении монгольском; тут и святители Киева: Михаил и священномученик Макарий, и преподобные печерские Антоний и Феодосий, и Сергий, отец иночества на севере России, и великий Арсений, держава безмолвия, как ангел нынешнего Владыки, при коем обновился священный памятник. Святитель Николай, избранный воевода и покровитель земли русской, великомученица Варвара, украсившая Киев своими мощами, первозванный Апостол, предвозвестивший благодатную его славу, и великий Предтеча Господень, станут также в ликах святых, расположенные крестообразно на стенах часовни. Небо ангельское и земное небо преподобных украсят ее своды, вместе с четырьмя изображениями чудотворных икон Божией Матери: нерушимой стены Софийской, Успения, что над Царскими вратами Лавры, и двух образов святой Софии, Киевского и Новгородского. В самом куполе Господь Вседержитель в сонме Ангелов; в руке Его Евангелие, отверстое над самим устьем крещального кладезя, с такими словами святого Евангелиста Марка: «Иже аще веру имет и крестится, спасен будет» Так одна мысль о благодатном крещении и память всех угодников Божиих, прославленных в Киеве, наполнят собой священную часовню, и дадут ей символическое значение о духовном обновлений земли русской.
Пусть красуется некогда великий Новгород новым своим памятником тысячелетия Руси, который мысленно возводит нас еще к языческим ее временам, по слову летописца Нестора: «откуда пошла земля Русская». Древняя матерь городов наших, стряхнув с себя прах своих развалин, утешительнее напомнит нам эпоху духовного возрождения нашего, этот скромный, крещальный памятник Равноапостольного послужит свидетельством девятисотлетнего христианства Руси, которая с того только времени и получила свою самобытность. В Новгороде будут с изумлением смотреть на благолепные изваяния роскошного памятника, где вся наша история представлена в лицах, и великие ее деятели обозначают собой различные грани сей тысячелетней славной летописи, которой начальный свиток в руках мудрого Нестора. Здесь же в смиренном Киеве, иной Нестор, глаголемый некнижный, почиющий также в пещерах, не словом летописи, но духом молитвы, повлечет благоговейных чтителей священной старины к бывшему устью Почайны, откуда действительно пошла земля русская, возрожденная в этом Иордане. Мимо всех событий минувшего каждый чувствует тут духовное родство свое с Просветителями Руси, по внутреннему сознанию своего христианства, – ибо это все духовные его дети, которых ему дал Бог, по слову псаломному, как и те двенадцать сыновей, которых он крестил в этой купели. Собственное его исцеление от слепоты не только духовной, но и телесной, в водах крещения, освятило давним преданием и сию купель, что здесь болящие глазами получают прозрение, если только умоются в водах источника до восхождения солнца. Благоговейнее чувство к сему кладезю, переходящее безотчетно от отцов к детям, бесчисленными стопами богомольцев пробило девятисотлетнюю стезю в горах Киевских на источник Владимиров: сюда текут волны народные, не считая годов и столетий, мимо протекших со всеми их бурями и многое стерших с лица земли; ибо у Господа день един как тысяча лет, и тысяча лет как единый день, символ же христианства – вечность, без различия времен.
От источника поднялись все три крестных хода: Старокиевский, Печерский, и Подольский на возвышенную террасу, где стоит иной гражданский памятник святому Владимиру – громадное бронзовое его изваяние на высоком пьедестале, господствующее над долиной Крещатика, бывшим устьем Почайны и привольным течением Днепра. Большой крест в руках Равноапостольного, и у подножия изображена картина крещения Руси. Толпа народа обступила памятник, как бы приютившись под сень его креста; около него торжественно двигались по окраине горы победные хоругви многочисленного клира. Митрополит поднялся на чугунные ступени, окропил памятник и с высоты их осенил крестом во все стороны, как бы от лица Равноапостольного, исполняя то, что и сам он готов бы был сделать в сию радостную минуту. И воды и горы киевские – все будто бы отозвалось осеняющему их пастырю. Это было самое торжественное благословение, какое можно себе вообразить в столь великолепной раме, вполне достойное того знаменитого urbi et orbi, которым хвалится Рим.
Оттуда двинулся общий ход по зеленой террасе, под сенью тополей, на вершину горы, к обители Михайловской, по новой дороге, для него прокопанной в углублении горы, и направился мимо собора Софийского, прямо к тому месту, где должна была совершиться закладка храма. Проходя мимо памятника святой Ирины, который поставлен над развалинами ее церкви, митрополит остановился, обошел кругом колонну и окропил ее святой водой; потом, в виду древних Златых ворот Ярослава, осенил издали сей торжественный вход великих князей русских, Ольговичей и Мономаховичей, в их столицу, которую оспаривали друг у друга. Златыми вратами окончилась летописная местность Старого Киева, и начались так называемые новые места, над коими господствует университет святого Владимира. Не доходя его, на обширной площади, избрано место для нового храма Равноапостольному, и тут совершилась торжественная закладка, в присутствии всех светских и духовных властей Киева. Митрополит заключил священный обряд назидательным словом, напомнив нам, новому Израилю, судьбы старого, чтобы мы не превозносились посреди нашего величия, а смиренно сознавали свое недостоинство, усердием к Церкви выражая любовь свою к Богу.
День спустя еще одно церковное торжество совершилось в близлежащем Вышгороде, бывшем селе Ольгином, которое всегда было уделом наследника великокняжеского престола, и где до разорения монгольского открыто почивали мощи святых князей Бориса и Глеба. Там усердие местного священника в весьма скорое время, хотя и с весьма скудными средствами, соорудило каменную церковь во имя святых Страстотерпцев, вместо убогой деревянной, приходившей в ветхость. Новое здание поставлено отчасти на старом фундаменте великолепного храма Мономахова, который стерла с лица земли буря монгольская; но утешительно было видеть хотя и небольшую церковь каменную на этом священном месте, которое господствует над всей долиной днепровской и далеко видно из Киева. Неутомимый архипастырь, как бы забыв трудный свой подвиг в день святого Владимира, с обновленными силами явился на освящение храма сыновей Равноапостольного, которых купель только что обновил в долине Крещатика.
И на следующий день продолжал он святительский свой подвиг, спустившись с Вышгорода в Межигорье, где совершил святую литургию в храме Преображения, бывшей знаменитой обители, которой запустения нельзя видеть равнодушно. Уже обновилась Святогорская, опустошенная той же рукой Таврического князя; неужели же не обновится и Межигорская, которая создана для безмолвия иноческого в своих глубоких удольях и роскошных садах, ныне уже заглохших, на красных берегах Днепра? Отрадно было видеть благолепное служение митрополита в величественном храме, который сооружал патриарх наш Иоаким, бывший послушником Межигорским. Оно мысленно переносило нас к лучшим временам сей древней обители, которой имя было так громко во всех пределах южной России.
Источник: Пятое издание. Санкт-Петербург 1863 г. От Санкт-Петербургского Комитета Духовной Цензуры печатать дозволяется. 30 января 1863 года. Цензор, Архимандрит Сергий